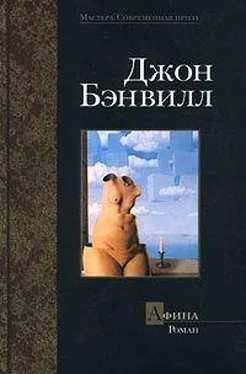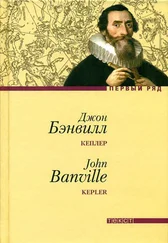И снова я лежу на боку, лицом к окну, за которым кончается дождь, а она спит у меня на руке, вздрагивая и посапывая, рука у меня онемела, но я лежу, не шевелясь, чтобы не потревожить её, и к тому же чувствую себя из-за этого героем, юным Тристаном, бессонно оберегающим свою ирландскую любовь; героем и глупцом, фантастическим, взволнованным, упоённым. Медленно во мне развёртывается воспоминание далёкого прошлого: как я ребёнком летом во время каникул на берегу моря выхожу из павильона, где показывали кино, ожидая, что снаружи дождь, и туман, и клубящиеся тучи; а вместо этого оказываюсь в лучах умытого, ясного солнечного света, передо мною — взбухшее синее море, по морю, клоня алый парус, плывёт яхта, держа курс на одетый дымкой дальний горизонт; и тогда, в единственный раз, в тот неповторимый, восхитительный миг, я почувствовал себя дома в приветливом, безмятежном и вечно хлопочущем мире.
Дождь совсем перестал, разрыв в тучах превратился в широкую полосу нежно-голубого неба, и А., вздрогнув, очнулась. Нахмурив брови, она смотрит на меня, будто не узнаёт, кто я. «Взгляни, — тихонько говорю я ей, — только взгляни, что мы сделали с погодой!» Она присмотрелась ко мне пристальнее, не уверенная, не шучу ли я, убедилась, что нет, и засмеялась.
Если я когда-нибудь всё же возьмусь и напишу ту работу по философии, что покоится, я верю, в околоплодной жидкости моего воображения, держа во рту пальчик, эта работа будет посвящена проблеме счастья. Да, именно счастья, хотите верьте хотите нет — этого самого таинственного, потому что самого эфемерного состояния. Знаю, есть люди — премудрые пруссаки в том числе, — которые утверждают, будто это вообще не состояние, в положительном смысле, а всего лишь отсутствие боли. Я с их мнением не согласен. Не просите меня сравнивать душевный настрой двух животных, одно из которых занято пожиранием другого; счастье, о котором веду речь я, не имеет ничего общего с когтями и клыками природы, это исключительное свойство человеческого рода, побочный продукт эволюции, утешительный приз для тех из нас, у кого недостало дыхания вырваться вперёд во всеобщей гонке. Это сила, чьё действие так нежно и мимолётно, что не успеешь его ощутить, как оно уже становится воспоминанием. Но это, бесспорно, сила. Она горит в нас, и мы горим в ней, не сгорая. Мне невозможно сейчас снова стать таким, какой я был тогда, припомнить — может быть, но не испытать заново блаженство тех дней; однако смятение, горе и боль не заставят меня отречься от того, что я чувствовал, каким бы обманом и позором это ни выглядело сегодня. Я прижимал её к груди, эту внезапно ставшую мне родной незнакомку, слышал толчки её сердца и шелест её дыхания и думал, что наконец-то я на своём месте, там, где, замерший и в то же время весь охваченный волнением, в лихорадке и погруженный в волшебный покой, я стану наконец тем, кто я есть.
А вот она, ходячее зеркало, в котором я поймал своё отражение, бедный, лупоглазый Актеон, чьи пятки уже предательски обнюхивают мои собственные собаки. Росту в ней пять футов два дюйма босиком. стоя босыми, душераздирающе маленькими розовыми ступнями прямо на полу. Бюст — тридцать четыре дюйма, талия… но нет, это бесполезно. В давние времена, когда я интересовался точными науками, меня особенно затрудняли измерения, подходя философски: разве может что-нибудь в этом неустойчивом мире замереть и простоять неподвижно, пока снимают мерку? (Я уже говорил это раньше? Ну и что с того?) И даже если возможно было бы добиться нужной неподвижности, что пользы от таких измерений за стенами лаборатории или анатомического театра? Старик Как-бишь-его был прав, всё в мире — движение и огонь, и мы в них вращаемся. В движении даже мёртвые, они рассыпаются в прах и плывут, грезя о вечности. Думая об А., я представляю себе некое подобие танцующих божеств Востока, с длинными ногами, с множеством извилистых тонких рук, она кружится и мелькает, только лицо неизменно обращено ко мне. Она — богиня жестов и превращений. А я, я склоняюсь перед ней, зачарованный и раздавленный, и падаю челом на холодные камни, слагающие пол храма.
У меня в памяти целая пачка её образов, точно фотографических снимков. Стоит вызвать один, и спазм блаженства и боли пронзает меня, как магниевая вспышка. Тона — от платиново-белого, через стеклянно-серый и металлический, до шелково-чёрных, кое-где с размывкой бледной сепией. Вот, например, взгляни на этот: я отвернулся от окна и вижу: ты лежишь на животе, опершись на локти, среди мятых простынь, одетая лишь в короткую атласную рубашечку, смотришь в сторону и куришь сигарету — всё вокруг в пепле, разумеется, — колени раскинула, болтаешь ступнями в воздухе, и я с пресекающимся дыханием стою и смотрю на розово-рыжую смятую орхидею у тебя между бёдрами и на туго свёрнутый бутон над нею, окружённый маленькой короной бледно-чайного оттенка. Ты почувствовала мой взгляд, повернула голову, смотришь через плечо, улыбаешься улыбкой растленного младенца и в насмешливом приветствии весело шевелишь растопыренными босыми пальцами. Или вот, гляди-ка, другая картинка, помнишь её? На этот раз у окна стоишь ты, босиком, в расстёгнутом платье. Ты стоишь с закрытыми глазами, спиной к окну, затылком прислонившись к раме, согнув одну ногу и уперев её пяткой в низкий подоконник, а руки скрещены под грудью, так что выкатились и обнажились два белых яблока — приношение. Я произношу твоё имя, но ты не слышишь или слышишь, но не обращаешь внимания, не знаю, и тут вдруг, словно призванная, спускается с неба большущая чайка, много больше, чем я себе представлял, на трепещущих крыльях повисает прямо за окном, освещённая бронзовым октябрьским светом, и как будто всматривается сквозь стекло сначала одним агатовым глазом, потом другим; ты, почувствовав вещее присутствие, оборачиваешься, и как раз в ту секунду чайка с гортанным криком, приоткрыв клюв, устремляется дальше вниз, в тёмное ущелье улицы.
Читать дальше