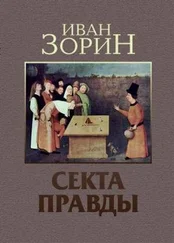За спиной выросли люди в плащах.
— Ну, вот и всё, Джон, — серьёзно сказал Фостер. — Осталась небольшая формальность… — Он снова опустился на стул, протянув лист бумаги. — Заполните, пожалуйста, анкету. В ней всего два вопроса: почему вы так легко поверили нам и почему согласились убить человека…
Уильямс похолодел.
— Но вы же сами…
— Я? Вас смутила моя болтовня?
Уильямс заметался, как крыса. Он уставился на анкету, перечитывал её пункты, но не мог ответить, почему он, взрослый, умудрённый человек, так легко поддался на слова незнакомых ему людей, толком даже не представившихся.
Дверь бесшумно отворилась.
— Отличная игра, Исаак! — улыбнулся Фостер. — Иди, смой грим…
Умывальник был в углу, но «араб», взяв со стола бутафорский пульт, стал, подражая Уильямсу, сосредоточенно двигать рычаг. Он строил ужасные рожи, театрально хватаясь за сердце, утирал со лба пот.
Уильямс растерянно заморгал.
— Ребята, объясните ему! — расхохотался Фостер и, откинувшись на стуле, стал раскачиваться на задних ножках.
Люди в плащах обступили Уильямса.
— Наше бюро проводит эксперимент, — начал тот, что пониже. — Проверяем, сколькие решатся на убийство…
— Если оно сойдёт с рук, — вставил второй.
— И если укрепит репутацию.
Они безразлично замолчали.
Уильямс поднялся.
— Но я же не убил! — брызгая слюной, забормотал он. — Не убил!
— Да не грызите себя, — махнул ладонью Фостер. — Вы не первый.
И двумя пальцами поднял за уголок бумагу, испещрённую фамилиями.
— Исаака приносят в жертву пять раз на дню.
Уильямс заскрипел зубами.
— Я сейчас же позвоню адвокату!
— Не позвоните, — усмехнулся Фостер. — Тогда все узнают, какой вы зверь…
Уильямс хлопнул дверью. Подняв воротник, он шёл в глухо плывших сумерках и думал, что с работы его всё-таки уволят.

«Лучше топтать чужую землю, чем лежать в своей», — бормотал Тимофей Закрутня, перебегая вприпрыжку по корабельным сходням. И, также прыгая, за ним перебегала его тень. В Крым входили «красные»: разворачивали тачанки с тупыми рылами пулемётов, летели с обнажёнными шашками, колотя ножнами о бока коней. Всюду срывали погоны, у старьёвщиков подскочили в цене лохмотья, и «Боже, царя храни!» вытеснялся матросским «Яблочком». Эта песня преследовала Тимофея: выгнала из Петербурга, едва не захлестнула на Кубани и теперь, перевалив через Сиваш, прижала к морю.
Закрутня был родом из малороссийского села с торчащими на плетнях, как отрубленные головы, горшками, которые разбивали лбами возвращавшиеся из шинка хлопцы. Разбросанные, как попало, белые хаты кривили единственную улицу, тесно упиравшуюся за околицей в овраг, а бой церковной колокольни отделял день от ночи.
Деревенские, что мухи — растут быстро и незаметно. И Тимофей успел вымахать под потолок, закончив приходскую школу, в которой козлобородый дьячок за три года выложил всё, что знал сам. «Тебе учиться надо», — чмокал он жирными от сала губами. А однажды, запершись в горнице с отцом, долго втолковывал что-то под обжигавшую нёбо хозяйскую горилку.
Отец вышел красный, с ласково блестевшими глазами.
«Смышлёный, стервец», — погладил он Тимофея шершавой, грубой ладонью. И на следующее утро вместо сенокоса повёз на телеге в город, то и дело понукая вожжами гнедую кобылу и распевая на всю губернию про горькую разлуку.
«Служи отечеству, — перекрестил он сына на постоялом дворе. — А за славой не бегай, она, как муха: бывает, садится на розу, но чаще — на навоз».
В гимназии на Тимофея обратили внимание.
— Так пойдёт — он и меня заткнёт за пояс, — протирая от мела пенсне, пел Дормидонт Мортимьянович Гаркуша, учитель математики.
— Не знаю как вас, а филологов многих обскачет, — перетягивал на себя одеяло словесник Захар Валерианович Горюха.
И дали ему рекомендации в Петербургский университет.
Они были похожи, эти пухлые, остроглазые старики, разглядевшие его большое будущее и не увидевшие своего.
Выплюнув цигарку, их застрелил на гимназическом дворе матрос, напевавший песню про яблочко.
«Горюха — получи в ухо!» — заливаясь пьяным смехом, бил он Захара Валериановича рукоятью маузера.
«Гаркуша — отведай холодного душа!» — передёрнув плечами, разрядил он обойму в Дормидонта Мортимьяновича.
Щёлкая «мышью», Вадим Недога открывал почтовые ящики. Он завёл их несколько, но писем не было ни в одном. Уничтожая спам, Вадим обнаружил поздравление от почтовой службы — сегодня ему стукнуло сорок. «Сорок лет — сорок дней», — почесав затылок, пробубнил он.
Читать дальше