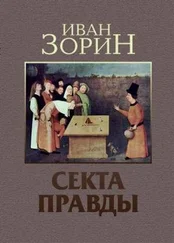Рвинчевы жили в маленькой квартирке, тёрлись спинами на кухне и по утрам занимали очередь в туалет. Жена постоянно злилась, её тень грозно густела, а крик заставлял метаться по клетке жёлтую канарейку. В семейной войне Алёша держал сторону матери. «Все беды оттого, что нас воспитывают женщины», — язвил Рвинчев, оставаясь один. Тогда он бросался к столу, доставал бумагу и, навёрстывая скомканные дни, садился писать. Но в последнее время из-под пера лезло одно и то же: «Меня ненавидит собственный сын!»
В романах Рвинчев объяснял поступки героев, но отчего его жизнь была как отложенная казнь, понять не мог. И сваливал всё на домашних, с которыми не находил общего языка. «Кто живет вымыслом, не умеет лгать», — оправдывался он, представляя жизнь, как сумму ролей, которые повторяют за суфлёром. На свою он давно махнул рукой, к тому же с годами стало казаться, что вокруг говорят по-русски, а думают на иностранном.
«Тяжёлый характер», — выносила приговор тёща.
За окном плыли галки, просунув шею сквозь прутья, вертела головой канарейка. Алёша наблюдал за отцом. «Хуже отчима», — выразил бы он свои мысли, если бы умел. Но в девять лет нет своих слов, только чужие. «И денег не приносит, — вспоминал он мать. — Лучше бы пил…»
Сугробы намело по шею, а снег всё валил и валил. Спиридон лежал на диване, будто под стеклянным колпаком. «Есть место, — упирался он взглядом в потолок, — и есть время, которое стоит на месте». Перебирая прошлое, он думал, что женитьба вывернула дни наизнанку, сделав его спицей чужого колеса. «Ушёл бы куда!» — плакала вечерами жена. Рвинчев отворачивался, идти было некуда, оставалось нести крест. С женой их объединяли вещи, сопровождавшие по этапу, как конвой. В шкафу пылились свадебные наряды, туфли, перчатки, которые толкали в спину, будто слепых, а на месте постели зияла пустота. «Зачем это, если нет любви?» — передразнивала Спиридона жена, покрываясь пятнами. Она хотела его задеть, но Рвинчеву делалось гадко — он, как улитка, запирался в ванной, подсунув под дверь тапочки.
«Жену не выбирают», — заглушал он крики льющейся водой.
Азартно нажимая на кнопки, Алёша ёрзал на стуле, уничтожая мелькавших солдатиков. «Глаза сломаешь!» — крикнул Спиридон. Алёша не ответил. Спиридон и сам чувствовал — так грозят из-за решётки. «Кому сказано!» — выдернул он шнур из розетки. У Алёши затряслись губы. «Я играл, — соскочил он со стула, — а ты, ты!» И раненой птицей метнулся на кухню.
Рвинчеву стало не по себе: «А ведь он и меня, как солдатика…»
В комнате было прохладно, между оконными рамами гуляли сквозняки, но Рвинчев спал без одеяла: возраст, как саван, накрывает с головой. А когда-то была весна, распускались подснежники, которые он приносил жене, а она, улыбаясь, ставила букетики у изголовья безмятежно спящего Алёши. Их аромат дурманил весь день, и супруги тихо смеялись, стоя в обнимку около детской кровати. Зато теперь обедали порознь, и на плите грелась вода, которую пора было заправлять. Спиридон тронул дверь, и в это мгновенье колесо его жизни опрокинулось. В щель было видно, как Алёша, встав на цыпочки, сыплет в миску серый порошок. Спиридон покрылся испариной, его глаза затянулись ряской, а ноги вросли в пол.
«Волчонок!» — застучал он зубами и больше обычного почувствовал себя камнем на шее. Алёша прошмыгнул мимо, пряча за спиной банку с крысомором. Рвинчев посторонился, его первым желанием было ударить, наказать, но рука, не слушаясь, безвольно повисла. Он вдруг вспомнил, как плакалась по телефону жена: «Выходила за человека, а живу с крысой!»
«С крысой…» — беззвучно прошептал Рвинчев.
Густо падал снег, в крохотную кухню ползли сумерки. Чтобы не упасть, Рвинчев вцепился в дверную ручку, застыл, глядя на кипящую воду. Он вспоминал отца, который топорщил усы и, зажав его шею коленями, шлепал ладонью по ягодицам: «Лучше я накажу, чем Бог». И Спиридону казалось, что тогда в его детских слезах не было злости, а обиды тонули в безграничной любви.
«А когда нет любви, — думал он, механически помешивая пустую воду, — остаётся одно…»
Годы, как зубы, собираются всю жизнь, а сыплются в одночасье. Рвинчев засыпал лапшу в кастрюлю, подождал, пока сварится, и налил в тарелку. Не вставая из-за узкого стола, протянул руку за ложкой и, зачерпнув лапши, стал на неё дуть. «У каждого своя цикута, — думал он, — но не каждый её распробует». Уставившись в угол, он уже видел, что жизнь уместилась в мгновенье, и это последнее мгновенье надо запечатлеть в памяти, чтобы предъявить высшему судье. «Ты принёс в жертву Сына, а я — себя ради сына, — скажет он, — и мы оба сделали это во имя любви!» Рвинчеву стало легко и спокойно, он больше не чувствовал себя спицей чужого колеса. Он уже поднёс, было, ложку ко рту, но вдруг подумал, что делает из Алёши убийцу. «Вырастет, не простит себе», — испугав канарейку, закричал он, отодвигая тарелку.
Читать дальше