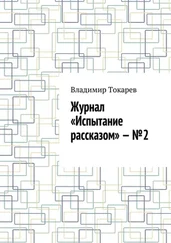«Книги — это пустое место… надо читать в крови, вот в чем дело».
А молитва о написании стихотворения — это тоже из высшей сферы.
Рильке является, пожалуй, одним из самых странствующих поэтов XX века. Он мог бы повторить вслед Артюру Рембо его знаменитые строки из «Пьяного корабля»:
Скиталец вечный, я тоскую о Европе,
О парапетах ее древних и камнях.
Страсть к перемене мест у Рильке исходит из его духовных потребностей. Трава ищет на земле толпы себе подобных; дерево ищет в небе свое одиночество, — писал Тагор. Одиночество Рильке — от иступленной приверженности к творчеству, поэтическому призванию, что нашло выражение в «Сонетах к Орфею» — лебединой песне поэта.
Рильке одним из первых в европейской поэзии обратился к образу Будды. Его необычная поэтическая интерпретация отражена в триаде стихотворений: «Будда (Робкий странник ощутит за милю.)», «Будда (Он слушает как будто.)», «Будда во славе».
Просмотрел Д. Самойлова — о русской рифме, глава «Рифма Тютчева».
Купил апельсинов (из Марокко) и кое-что по мелочам for home (типа шампуня «Крапива»). Яблок нет. В Елисеевском двухчасовая очередь.
В метро читаю «Пагсам-чжонсан», главу о Монголии, осталось немного до завершения. Пубаев отмечает, что Сумба-Хамбо в описании взаимоотношений Китая с кочевниками называет гуннов (хунну) этнонимом «хор». Такое определение впервые встречается в тибетской историографии и указывает на гуннов как возможных этнических предшественников монголов.
Сам Сумба-Хамбо происходил из кукунорских монголов. Незадолго до кончины в возрасте 82 лет он завершает еще одно свое значительное произведение «История Кукунора», ставшее его лебединой песней и данью уважения к земле своих предков.
Хор, Кукунор —
эхо азийских степей и гор.
Опять была сильная гроза с дождем. Переждал ее в Ленинке, читал Туччи, созерцая боддисатв, изображенных на цветных иллюстрациях. Сверху смотрели на меня бюсты Пушкина и Л. Толстого. Обычно я сажусь под ними.
Легенда о заблудшем волке
С похмела просыпаясь под рокот тяжелой листвы,
как затравленный волк, я нырял в подворотни Москвы.
Электрички, вокзалы, метро прищемляли мой хвост,
оттого что я был синим небом ниспосланный пес.
Я с подругой случайной моей заглушал в себе вой.
Почему позабылось, что я из породы другой.
Сколько рыскал глазами я в поисках братьев моих,
откровенья мои получали удары под дых.
Кто сильнее сегодня, окажется прав все равно.
Я зализывал раны, волкам же линять не дано.
Мне осталось уйти в свое логово — синюю даль,
где подруга моя не волчица, а вечная лань.
30.5. Воскресенье.
Вот, наконец, не спешу
в библиотеку.
Надо же передохнуть
человеку.
Можно и выпить немножко.
И присесть на дорожку.
Рейс 115, Внуково — Улан-Удэ. Кажется, я почувствовал, что за месяц в Москве многое приобрел и как-то по-новому стал смотреть на вещи.
И женщина с печальными глазами
кому-то улыбалась на вокзале.
Всегда бывает грустно расставаться.
Но есть Восток, а надо возвращаться.
И ждет меня Бурмония —
моя Бурят-Монголия.
Родина моя всадница
с лазоревым луком Байкала,
с колчаном из тысячи стрел —
рек, родников и речек, оперенных тайгою.
Родина моя всадница
в горностаевой шапке Саянских вершин,
в одеянии синем под цвет
озаренного вечностью неба.
Родина моя всадница,
оседлавшая пространство и время,
скачет куда твой конь,
стременами звеня Ангары и Онона?..
31.5. Понедельник.
Летел навстречу дню, рассвету. Ночь — самая короткая во время перелета. Сразу неожиданно посветлело, буквально, прямо на глазах происходило нарастание света. Прилетели в 8 утра по расписанию.

О, моя Азия,
сутра
солнечного утра!
В ожидании багажа сочинились эти строки. Видно, жаждала душа бурмона узреть родные пенаты.
Дома: Сарангуа поправилась за месяц, что ее сразу не признал. А она так улыбнулась, как будто я никуда не уезжал.
На Борсоева поселила Д. своих родственников — семью с ребенком. Когда я пришел и высказал свое недоумение, они удалились. Все-таки проняло их. С Э. Бальбуровым на берегу Уды отметили мое возвращение. После Москвы отвык пить водку. Говорили о Блоке, Пушкине. Три заповеди человека: посадить дерево, написать книгу и родить ребенка.
Читать дальше