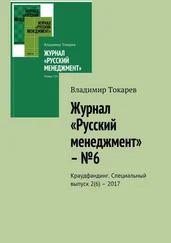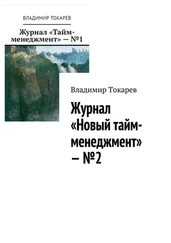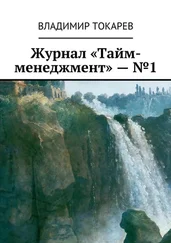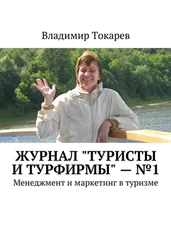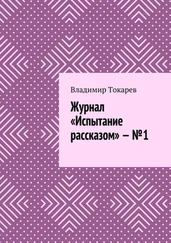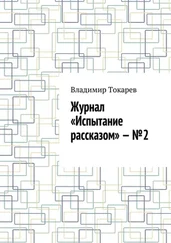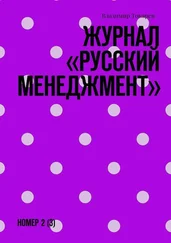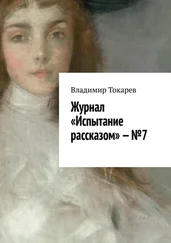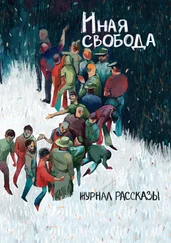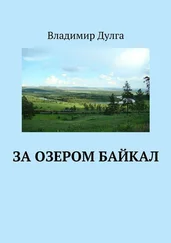Звонил Ан. Преловскому. Он сообщил, что «Алтан Шагай» должен вот-вот выйти в Иркутске в его переводе. В прошлом году перевод был опубликован в «Сибирских огнях» (№ 3–4). А. П. чуток к бурятскому улигерному стиху, к поэтике оригинала. Старается передать анафоричную рифмовку — когда рифмуются начальные слоги, а не конечные, как в русском стихосложении. В самом начале работы над «Алтан Шагаем» Преловский обратился ко мне за помощью, и я вывел его на Женю Кузьмину — эпосоведа, работавшую в секторе фольклора народов Сибири в Новосибирске (в Академгородке). Два года назад она выпустила свою монографию «Женские образы в героическом эпосе бурятского народа». Творческий союз фольклориста и поэта оказался удачным: «Алтан Шагай» обретает широкого читателя вслед за «Аламжи Мэргэном» и «Гэсэром» в поэтических переводах И. Новикова и С. Липкина.
25.5. Вторник.
В Ленинке — ксерокопия с утра. Взял талон на очередь. Побежал в ИВ АН. Хотя в библиотеке сандень, Галина Васильевна, знакомая билиотекарша по Армянскому переулку, за хороший комплимент разрешила мне позаниматься с 10 до 13 часов, что я и сделал с удовольствием. Просмотрел введение и часть 11 главы диссертации В. Дылыковой.
В обед сделал ксерокс Хайссига (на немецком языке), Т. Шмидта (на шведском языке), Ричардсона «A short history of Tibet». И мультфильм «Закон Будды среди птиц» (на английском языке), а также «Поездка в Окинский караул» Кропоткина.
В метро читал «Пагсам-чжонсан». Сумба-Хамбо, исходя из религиозно-философских положений древнеиндийской традиции, видит в истории четыре легендарные эпохи. Последняя из них — кали-юга как «эпоха распрей» вобрала в себя все четыре вида грехов (прелюбодеяние, воровство, убийство и ложь). Перекликается с античным мифом о золотом веке и последующей деградации человечества.
Кали-юга —
с каждым веком все сильней
центрифуга
человеческий страстей.
Пахнет на улице приторно черемухой. Сегодня, видимо, день прощального звонка. Школьницы в фартуках белых. Акселератки — ростом под 180 см.
Почему-то вспомнились строки Антокольского:
Но мир еще широк.
Но я разорван от надира до зенита
И вырван из своей домашней скорлупы.
Видел П. Антокольского несколько лет назад в «Литературном музее» на Петровке, где проходила встреча с Арсением Тарковским. Был сухонький старичок, с молодой дамой, видимо, внучкой, сопровождавшей его. Тарковский читал свои вещи мерным спокойным голосом, и его интонация и строй стихов странным образом навевали тоску по серебряному веку.
* * *
А мне бы нежности
и тихой радости
и человечности
до самой старости.
А мне бы улыбаться,
но почему же так
все чаще пальцы
сжимаются в кулак?
26.5. Среда.
В Ленинке — ксерокс Б. Лауфера, глава о буддийской литературе (из его книги «Очерки монгольской литературы»), Snellgrove из книги «Гималайская цивилизация» и Хайссига. Вечером перевод рассказа David-Neel о тулку. Жутко интересный. Двойник человека, возмечтавшего о бессмертии. Девушка, убитая им, возмездие. Книга Падмасабхавы, обещавшая бессмертие, остается недоступной. Тулку не доходит до нее.
* * *
Поток людей, поток, поток.
Бесконечный, суетный поток.
А я песчинка, капелька всего лишь
в потоке этом городском,
бурлящем в тесных берегах
человеческого эго.
О Вечное Синее небо,
из глубины мироздания,
с его невидимых вершин,
где обитают, наверное, небожители,
кем я кажусь оттуда —
не более чем травинкой на лугу,
не более чем песчинкой
в караване барханов, кочующих в пустыне.
Поток, поток… Он течет, течет, все быстрей, все неудержимей.
Чем же я отличаюсь от людей, братьев моих — песчинок? Может, тем, что никогда не спешу с толпой, словно в запасе у меня персонально целая вечность. Может, тем, что очереди за дефицитом для меня — как вид изощренной пытки, переживаемой целой страной. Может, тем, что пишу стихи, говорят, неплохие, и тешу себя надеждой, что кто-то сверху все-таки смотрит за мной…
Помню, в детстве родители купили мне юлу. Мне страшно нравилось смотреть на нее, когда она, заведенная, кружилась на кончике своего стержня вокруг собственной оси посреди комнаты, а потом медленно, израсходовав кинетическую энергию, заваливалась набок. Не так ли и мегаполис, как заведенная гигантская юла, вращается вокруг Останкинской башни, как вокруг собственной оси, вращается, пока вращается.
Читать дальше