«Сами» начальники менялись, а отец нет. Каждый начальник нуждался в нем. Иногда отца получали как бы в наследство, иногда «повышались» уже вместе с ним. Отец писал на двух языках — по-русски и по-грузински. Но все последние годы, когда он работал в Центральном Комитете Коммунистической партии Грузии, русский был важнее, чем грузинский, по-грузински он почти не писал.
Любой доклад начинался со звонка, с вызова в кабинет: «Надо подготовить отчет к внеочередному совещанию, Петрович. Внеси там парочку дельных предложений, следует выступить с инициативой». Мой отец шел к себе, в конец коридора, брал отчет с очередного совещания и делал его «внеочередным». Он раскладывал на столе, как карты, то, что «настрогал». И расклеивал цитаты, тут и там. Менял кое-какие выражения, обновлял цифры. Вносил парочку дельных предложений и выступал с инициативой. Потом начальник, тот, что не вставал с кресла, когда отец заходил, зачитывал доклад под общие аплодисменты.
Отец говорил, что «наверху» совершенно не знают, как люди «внизу» живут. Не видят — или не хотят видеть? — что на одну зарплату не прожить. Начальники не вылезают из своих кабинетов, из персональных машин, с дач. Строгают друг у друга цитаты, а жизнь идет своим чередом. Этакое номенклатурное общество внутри общества, без всякой связи друг с другом. Отец приводил сравнение, которое мне сейчас нелегко повторить.
«У меня создается впечатление, — говорил он, — что голова отрывается от тела».
Мой отец много работал. Брежнев выступал с высокой трибуны, его слова подхватывали ораторы по всей стране. Любой брежневский доклад надо было обсудить, одобрить и поддержать. Выбрать к каждому выражению эпитет. У отца на железном сейфе, сбоку, был приклеен список наречий — «прекрасно», «умно», «мудро»… Выбирай. «Как мудро отметил в своем выступлении товарищ Леонид Ильич Брежнев…» Мой отец строгал и строгал.
Он никому не рассказывал о своей работе. Иногда — мне. Может быть, я тоже был ему лучшим другом. Однажды он позвонил мне и попросил, чтоб я зашел. Отец сделал ошибку. Фронтовой товарищ прислал ему письмо накануне — жаловался на то, что не может заставить колхозников работать. «От рук отбились, — писал товарищ, — ни веры в народе нет и ни страха! Я их спрашиваю: кто за вас работать будет? Отвечают — Ленин! Бери его в бригаду!» Отец как раз работал над докладом и перепутал бумажки. Он заметил ошибку слишком поздно, доклад уже ушел «наверх». Я спросил: «Что ты там написал?»
«Труженики колхоза „Путь к коммунизму“ из поселка Комсомольск на реке Кундузда выступили с инициативой зачислить Владимира Ильича Ленина в свой коллектив».
Мне это показалось смешным. Ленин в своей любимой кепочке таксиста. Ленин на субботнике с бревном на плече. Ленин, лежащий в Мавзолее, как сухофрукт. Мертвый Ленин — в живом коллективе!
«В лучшем случае меня уйдут на пенсию», — сказал отец. Мало кто знает: в брежневскую эпоху за «политические ошибки» тоже сажали. Через пару дней доклад передавали по радио, фраза о Ленине держалась на плаву. Потом ее повторили в докладе «повыше», потом еще. Отец сообщал мне о самостоятельной жизни ошибки как о передвижении по телу проглоченной иголки. Если не выйдет сама — смерть! Последней инстанцией был Брежнев.
И наконец: «Как мудро отметил в своем докладе Леонид Ильич Брежнев, коммунисты нашей многонациональной страны решили откликнуться на замечательную инициативу тружеников колхоза „Путь к коммунизму“ из поселка Комсомольск на реке Кундузда… и вот уже трудящиеся Грузии и других республик… теперь каждый член коллектива работает за себя и за Ленина… чтобы достойно выполнить взятые на себя обязательства… непоколебимая вера нашего народа в светлое будущее…»
Ни веры и ни страха! Не только в колхозе «Путь к коммунизму», а во всей многонациональной стране!
Отец говорил, что вера в светлое будущее умерла вместе со Сталиным, а страх развеял Хрущев. И странное дело: Сталина любили больше, чем Хрущева. Даже те, кто пострадал во время репрессий, даже те, кто отсидел. Хрущева, если не ошибаюсь, не любили вообще — он отнял веру и ничего не дал взамен.
Я потерял свою веру в светлое будущее быстрее, чем стеснительность, и навсегда. Однажды я шел по коридору к отцу в кабинет, а женщина выметала веником мусор и приговаривала себе под нос: «Пишут-пишут, а я одна — убирай!» Я увидел в ее словах глубокий смысл. Зачем это все? Мы все идем в никуда.
Наверное, тогда закончилось мое детство. Сейчас я знаю — детство длится очень долго. Потом быстро проходит жизнь и начинается старость. Старость — это время, когда вспоминаешь детство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
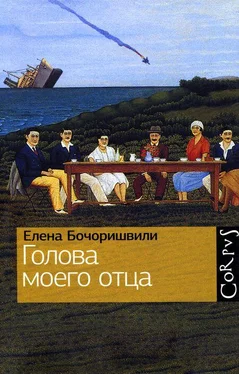
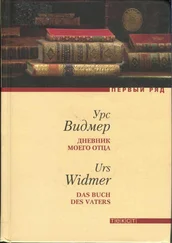

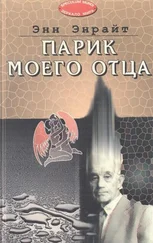



![Камил Икрамов - Дело моего отца [Роман-хроника]](/books/411899/kamil-ikramov-delo-moego-otca-roman-hronika-thumb.webp)
![Марсель Паньоль - Слава моего отца. Замок моей матери [сборник, litres]](/books/420986/marsel-panol-slava-moego-otca-zamok-moej-mater-thumb.webp)



