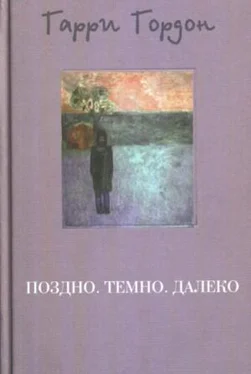Федор Иванович разрушил наш график пропуска занятий. Всем известно, что «править казенку» лучше целый день, или хотя бы полдня — легче найти уважительную причину. Но, карабкаясь ли по приморским обрывам вместо начертательной геометрии, играя ли в «пожара» или «пристеночку» вместо военного дела, мы неизменно появлялись в училище на паре Федора Ивановича, и исчезали вновь, часто застуканные вездесущим Наумом Борисовичем. Наум Борисович преподавал историю и был чем-то вроде комиссара, по средам бегал, заглядывал в аудитории, брызгал слюной и кричал:
— На политинфоймацию!
На политинформации он объявлял:
— Амеиканцы нагьы! У-у-у-у! — как они нагьы!
Ведя урок, он имел манеру, произнеся полслова, ждать, чтоб вторую половину ему подсказала аудитория. Получалось так:
— Скифи вица… что? — спрашивал Наум Борисович.
Мы искренне недоумевали, какое слово он имеет в виду.
— Скифи вица… что? — повышал голос Наум Борисович.
Мы пристыжено молчали, не в силах помочь симпатичному, в общем-то, преподавателю.
— Скифи вица-апывали на камнях изобъяжения… — терял терпение Наум Борисович.
Он-то нас и застукивал, взяв на себя ответственность за посещаемость, ругался, обрызгивал слюной, но закладывал редко.
На лекциях Федора Ивановича стояла торжественная и немного печальная тишина, как на обезлюдевшем пляже первого сентября, только негромко накатывал и откатывал, пришепетывая песком, бурля галькой, теплый голос Педанова. Вызвав студента к доске для разбора, скажем, предложения, он скоро забывал о нем, и горький серный запах русской культуры кружил нам головы. Федор Иванович рассказывал о неведомых обэриутах, цитировал Историю государства Российского Алексея Константиновича Толстого, читал Пастернака. Опомнившись, старик отпускал студента, ставил ему отлично, и продолжал.
Однажды, под давлением то ли молодых учительниц, то ли своей партийной совести, директор Васька решил расправиться с крамольным стариком. Не осмеливаясь брать его голыми руками, Васька пригласил комиссию от городского начальства.
«Педанова выгоняют, Педанова выгоняют», — пронеслось по коридорам, и весь курс как один, вымытый и бледный, пришел на занятие, полный решимости умереть, но победить.
Федор Иванович, казалось, ничего не заметил. Одинаково приветливо кивнув нам, Ваське, комиссии, он начал свою лекцию в своем духе. По окончании мы столпились в коридоре. Чиновник в костюме и при галстуке шагнул к вышедшему последним Педанову и проникновенно сказал:
— Спасибо, Федор Иванович.
— А-а, да-да, я вас помню, — всмотрелся старик, — вы были, кажется, неплохим студентом.
Мы взревели, Васька, злобно косясь, убежал. «Отак, диты, добро завжды пэрэмогае зло», — говорит дед Панько в передаче «Надобранич».
Вообще-то мы всегда это знали. Я был уверен, что любую несправедливость, любое недоразумение можно разрешить, внятно и не торопясь изложив дело вышестоящему. К счастью, очень скоро вышестоящим для нас оказался Паустовский.
Юра Кабельский, морской офицер, вследствие романических каких-то причин бросивший все и поступивший в училище, долго приглядывался ко мне и принес однажды «Золотую розу». Вскоре вышел знаменитый шеститомник, и жизнь наша была окончательно загублена. Повесть «Романтики» я знал почти наизусть, мы распределяли роли, я скромно решил, что Максимов — Кока, а для себя оставил втихаря авторский контекст.
От Паустовского узнали мы об импрессионистах, о Гогене и Ван-Гоге, о Мандельштаме и Багрицком.
Мы узнали, что нельзя убить человека в виду Сикстинской Мадонны, и что всякий, глядящий на женщину с вожделением — последний подонок. Мы ловили рыбу с Фраерманом и Гайдаром и обсуждали с Бабелем проблемы творчества. Мы обходили за два квартала «солидных людей» и ненавидели ханжество, влюблялись, дрались на ножах и распевали гордые песни спина к спине с Александром Грином.
Позже, уже в Ленинграде, влюбившись в циничного Хулио Хуренито, я почувствовал себя чуть ли не обманутым. Духовный мой отец возлежал предо мной обнаженный, пьяный от дегустации своего напитка. До хамства, правда, не дошло — я грустно прикрыл старика сиреневыми романтическими лохмотьями.
Похоже, я прозрел, но не тут-то было. Романтизм, оказалось, не предмет очарования или разочарования, а состояние врожденное и неизлечимое. Вот почему люди, якобы «романтически настроенные» — омерзительно лживы.
Загубив себя повторно и окончательно, я открыл для себя тонкого и глубокого Александра Грина, подаваемого нам алыми парусами вперед, чуть ли не едущим за туманом и за запахом тайги. Я догадался, что романтизм — мрачная поэзия обрезанных крыльев. «…А за гаванью, — признается Грин, — …витает Несбывшееся — таинственный и чудный олень вечной охоты».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу