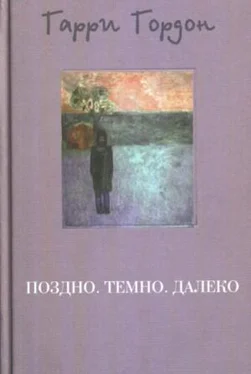— Уставился, козел, — заворчал ублюдок дога, лидер, должно быть, — я тебя знаю, ты пасешься возле тридцать шестого, «Фрукты-Овощи». Поставь полкосточки, не то за жопу укушу!
— Точно, он, — мурлыкнула маленькая темная шавка, — ему еще на той неделе глаз набили.
— Слышь, турист, зевнул серый болван, — сучка не нужна? Породистая, закачаешься. Щас приведу — рубчик давай.
— Не надо, — чуть не ответил я вслух и засмеялся.
— Сержант Соболь, — обиделась шавка, — ваши документы!
Я громко сломал об колено ветку.
— Ханыга, — осклаблился полудог, — что с него взять. Пошли, мужики.
— Интеллигент вонючий, — обернулся на прощание серый.
— «Какое мне дело до всех до вас», — удаляясь, пела шавка независимым тоном, царапая когтями по насту.
— «А вам до меня», — подхватил я.
В летнем кинотеатре «Комсомолец» на Дерибасовской, мы смотрели этот фильм, «Последний дюйм», с Морозовым при тяжких для меня обстоятельствах.
Я чувствую себя ущербным, когда мне говорят о первой любви, вспоминают что-то, тоскуют по ней, сравнивают… Не разберу, по какому поводу следует мне снисходительно хлопать себя по плечу, печально и нежно улыбаться в ночи.
Она, всегда первая, она же последняя, существует не во времени, а залегает где-то глубоко, прорываясь иногда то гейзером, то сиплым паром, то извержением расплавленного кошмара, то илистым ручейком, пригибающим незабудки. Черт ногу сломит в ее божественной тектонике.
Помню, впрочем, девочку с Нарышкинского спуска, она приходила к подружкам в наш двор, мы играли в штандера, и я, выкрикивая ее имя, всякий раз гнусно перевирал его, кривляясь, и видел на ее лице недоумение, смешанное с омерзением. Сердце мое колотилось, когда она появлялась на углу, видная издалека, в вылинявшем алом сарафане, такая понятная и необходимая, как стаканчик слегка разбавленного томатного сока на жаре.
Или это была отличница в седьмом классе, в темно-коричневой школьной форме, смуглая, с родинкой на щеке, надменная, дружелюбная со всеми, кроме меня. У дома ее на улице Гоголя я похаживал с независимым видом, часами читал афиши Дома ученых, иногда посылал Коку вызвать ее и тут же возвращал.
К этому времени я уже перестал быть Печориным и силился поразить ее воображение нависшим на левый глаз чубом, остроумными репликами на уроках, курением на задних партах. Увы, клеши мои, перешитые из Мишкиных флотских, и черно-серая ковбойка с поломанной змейкой, удаль моя и маленький рост, усугубленный именем, не привлекали генеральскую дочь.
А может, это была старшекурсница университетского филфака, пришедшая однажды с друзьями к нам в училище на танцы.
Эти вечера по субботам славились на всю Одессу, магнитофон «Днипро» под надзором глухонемого Дубовика, умевшего произносить одну фразу: «Смтри в свою тарэ-элку» — это в ответ на наши просьбы поставить ту или иную бобину, — магнитофон выдавал классные, «законные» мелодии — и «Комперситу», и «Аргентинское танго», и «Маленький цветок». Эти вечера длились до упаду, до двух, а то и до трех ночи, начальство уходило в одиннадцать, оставляя за себя сознательных старшекурсников с наказом: «Дерибасовскую не пускать!».
У двери выставлялись дежурные, сменяемые каждый час, и мы с Нелединским оказались однажды такими дежурными, зарядившись предварительно на той же Дерибасовской в автомате четырьмя стаканами белого вина.
Она пришла в компании приличных молодых людей, им было слегка за двадцать, и мы их, куражась, не пускали.
— Не велено, — голосом дяди Коли отклоняли мы их просьбы, зная, что пропустим.
Наконец пришло время пароля.
— Паустовского знаете? — строго спросил я.
— Константина Георгиевича? — хором откликнулись они.
— Проходите, — расшаркались мы.
На следующий день я пришел к ней в общежитие, она весело сбежала ко мне в халатике, голова моя кружилась все лето.
Все лето она изводила меня, сразу раскусив, взрослой своей снисходительностью, читала мне Блока, и смеялась, и говорила, что я инфантилен.
Мы гуляли по парку Шевченко,
Над раковиной тлело танго,
И, напряженнее травы,
Я был ковбоем и мустангом,
И называл ее на «Вы»,
Я был бесстрашен, словно турок,
Но от волненья сильно взмок,
И воробей клевал окурок,
Растоптанный у стройных ног.
А там, где на разлив давали,
И ситцы реяли, пьяня,
Друзья мои негодовали
И отрекались от меня…
Осенью она окончательно разозлилась и посоветовала либо жениться на ком-нибудь, либо пойти в армию, чтобы стать мужчиной. Помахивая лопатками, я побежал к друзьям, туда, где давали на разлив…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу