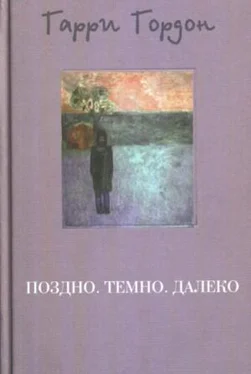Я попал в семинар старейшего из старших, Марка Андреевича Соболя, который благожелательно согласился обсудить меня наравне со всеми. Соболь проводил семинар в своей комнате, полулежа на кровати. Пока все рассаживались, Марк Андреевич поманил старосту, полувоенного на вид человека.
— Лекарство принесли? — ласково спросил он. Староста махнул бровями на подоконник: «Так точно».
Старик отодвинул занавеску, увидел бутылку коньяка и удовлетворенно кивнул.
Занятия проходили два раза в день, и к концу вечернего семинара Соболь бывал совершенно здоров. Это не имело особого значения — в нужный момент его заменяли Григорий Михайлович Левин и Олег Дмитриев. Я обсуждался в последний, третий день на вечернем семинаре.
Григорий Михайлович страстно меня хвалил, сердито поглядывая на окружающих, краснел, ерошил седые волосы, выкрикивал комплименты, как проклятия. Марк Андреевич вздрагивал, открывал глаза, снова закрывал их, согласно качая головой. Левин предложил мне почитать еще.
Соседка, старая карга,
Меня рассматривает косо,
В ее груди поет орган,
В зубах белеет папироса.
Старуха пела за стеной,
Вздыхала шумно, хлеб глотая,
И смерть моя была со мной,
Еще такая молодая.
Соболь проснулся, выпил полстопки.
— Олег, — спросил он Дмитриева, — ты можешь вздыхать шумно, хлеб глотая?
— Могу, — выдохнул грузный Дмитриев, грозно глядя на Соболя.
Марк Андреевич пожал плечами:
— Вы герой не моего романа, — сказал он мне тоном придворной дамы. Затем медленно положил подвядший кабачок лысой своей головы на мою кроличью шапку, лежащую на кровати.
Триумфатором был Юрочка. Окончивший Литинститут у Егора Исаева, стихи писал он крепкие и страстные, читал яростно, слегка рыча, как юный Маяковский. Возбужденный победой, он позвал меня в магазин за портвейном. Бывший сержант стройбата, Юрочка ориентировался на местности, как десантник.
Замысловатыми тропами, протоптанными в сугробах, он безошибочно вывел меня к сельскому магазину, где давали портвейн «777». По дороге я узнал, что он из Луганска, что был он хорошим сержантом, потом хорошим студентом и, наконец, классным дворником при Литинституте, что в дворницкой у него толпились, естественно, поэты, и что у него всегда находилась для них крупа, а иногда и картошка. Я представил себе поэтов, жующих крупу, и рассмеялся.
Юрочка мне понравился. Расставаясь, он загадочно говорил о новой своей жизни, извинялся, что не дает свой адрес, да и живет он у черта на куличках, а телефона нет… Вот ведь, и в Луганске, оказывается, бывают поэты. А я-то думал…
Думал конечно не я — семь лет к тому времени я жил в Москве, и, если меня хвалили, то, казалось мне, только потому, что я одессит. Хвалили, это куда ни шло — постоянно от меня требовали то хохмы, то блеска или безумия, то, на худой конец, просто колорита. Москвичи, побывавшие в Одессе, рассказывали мне байки, ожидая одобрения.
Катаев на старости лет владел умами, подавал на старости лет надежды. Старик, подающий надежды, — это что-то из Диккенса, это загадочное обещание неслыханного наследства для того только, чтобы почитали при жизни…
Семь лет к тому времени жил я в Москве, трижды побывал в Одессе, скучал по ней дождливыми утрами, но высшей точкой моей ностальгии была почему-то Жевахова гора — невысокий пологий холм под Одессой, разделяющий два лимана — Хаджибеевский и Куяльник. Может, потому, что не бывал там с детства и все забыл, и все придумал заново.
Пустынный день на берегу лимана,
Там ящерица в небе голубом,
В когтях у ястреба.
Из пыльного бурьяна
Выходит муравей с тяжелым лбом,
Два облака сошлись, как два барана,
И ливень, словно пыль, стоит столбом.
Такие вот критомикенские картинки набалтывает мне ностальгия, и, может быть, Одесса тут вовсе ни при чем.
Четырнадцатилетние, мы писали там этюды — черное солнечное небо и выжженную траву, купались в соленом Куяльницком лимане — соль разъедала глаза, мы кололи глосиков заостренной кочергой, подпрыгивали, наступая на колючки камбалы. Сморенные жарой, мы засыпали в будяках, высохшие, как мумии порубанных запорожцев.
«Полягало йих нэмало, а татарив — трое».
Извечная, может быть, мечта художника о необитаемом острове превращала меня из личинки в куколку, хрупкую ее скорлупу протыкала иногда острая реальность.
Однажды в бурьянной дреме послышалась мне мелодия, нарастающая, тревожная, неведомое болеро, на фоне которого тявкала жалобно беленькая собачка, в ужасе бегал кто-то по лестнице. Я проснулся, сердце мое билось, кружилась голова. «Маме плохо», — сказал я Коке и поехал домой. У мамы действительно был сердечный приступ.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу