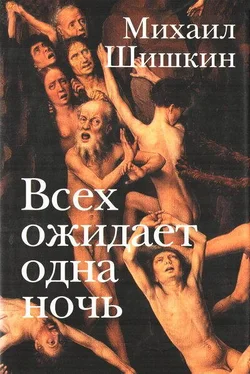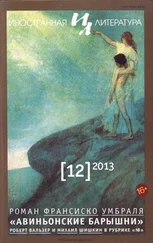— Нет, вы только представьте себе! Кругом холера, а тут вот эта палочка!
В октябре холера пошла на убыль, хотя случаи заболевания продолжались до самой зимы.
В самом начале ноября я получил письмо из дома. Холера, слава Богу, прошла стороной. Матушка написала мне втайне от сестры и невестки, а может, и по их наущению. Она написала, что Нина ждет меня и будет ждать. Я ответил несколькими строками, что я жив-здоров, что Бог зачем-то бережет меня и что к Нине не вернусь никогда.
Потихоньку жизнь в Казани оживала. В город возвращались те, кто спасался от заразы в деревнях.
Предметом разговоров сделался Кострицкий. Он тоже заболел холерой, но через три дня мучений вдруг выздоровел. Его все поздравляли с возвращением с того света, но он ходил как во сне, испуганно озираясь по сторонам, осунувшийся, бледный, никого не узнавал.
Вернулись Нольде и рассказывали про безобразия, творившиеся на карантинных заставах, про лихоимство и тупость чиновников, про дикость народа, не желавшего исполнять спасительные предписания, про то, что от двухнедельной задержки всякий мог откупиться.
С наступившими холодами холера притихла.
Служба засасывает, отравляет мозги. Я заметил, что чтение и сочинение всех этих входящих и исходящих уже не вызывает во мне прежнего живого отвращения. Бумаги жили какой-то своей, стройной, разумной, чернильной жизнью с непреложными законами и верой в свою необходимость. Я ловил себя на том, что иногда на меня стало находить даже своеобразное вдохновение при сочинении бесчисленных резолюций, отношений, выписок, и, разогнав перо, я уже не мог остановиться и мчался по листам, будто по льду на коньках. А потом наступало отрезвление. Труд мой, только что доставлявший мне удовольствие, делался постыдным, отвратительным, и, отдавая написанное перебелить, разминая уставшие пальцы, я с ужасом думал о том, что бумаги эти залетят в какие-нибудь Столбищи и будут храниться там и после моей смерти, если их не спасет пожар.
На мой стол слетались и заплутавшие жалобы, доносы, прошения. Отчаявшиеся добиться справедливости люди начинали писать во все существующие и несуществующие учреждения и инстанции, и часто мне приходилось читать и отвечать на бумаги, ни с какого бока с корабельными лесами не связанные. О чем только не взывали к вселенской пустоте эти несчастные! Помню страшное письмо, каким-то чудом переданное из заключения. Один соликамский чиновник был оклеветан и безвинно посажен в тюрьму, из которой живым он уже не чаял выбраться, поскольку надзиратели натравливали на него убийц и насильников. Он умолял снарядить комиссию и разобрать его дело, а не то он не выдержит издевательств и наложит на себя руки. Какая-то вдова продала весь свой скарб, чтобы дать взятку для выигрыша дела о домике, но ее обманули. Исправник в Урюме, вместо того чтобы ловить безобразничавших там разбойников, сам наводил шайки на купцов и брал себе мзду. Какой-то учитель из Арска ослеп и просил отправить его на казенный счет в Петербург к глазному врачу Лерхе, снимавшему катаракту.
Бумаги взывали, возмущались, жаловались, просили, требовали. Казалось, губернию населяют сплошь обиженные, убогие, обманутые, одним словом, страдальцы. Все их отчаянные крики о помощи, излитые чернилами на бумагу и отправленные Бог знает куда, лишь бы в Казань да в столицы, были совершенно бессмысленны. Все эти мольбы, жалобы прямиком отсылались обратно на места, чтобы с ними разбирались те самые взяточники, притеснители и казнокрады, на которых и жаловались несчастные, ибо кому какое дело в Казани или в столицах до ограбленного в Урюме или до слепого учителя в Арске?
Я отсылал подобные послания обратно во все эти Урюмы, Пестрецы, Морки с просьбой к местным властям разобраться, прекрасно отдавая себе отчет в том, что толку никакого не будет, даже если я сам, возмущенный попранием справедливости, брошусь черт знает куда и буду добиваться освобождения безвинно посаженного за решетку соликамского чиновника. Судья найдет еще десять резонов, за что стоит посадить этого беднягу, ибо будет спасать свою шкуру, да к тому же еще выяснится, что этот чиновник и в самом деле преступник. И я, хорош был бы я в роли казанского Донкишота! Тот окончил дни свои по крайней мере в собственной постели, а мне бы пришлось коротать денечки в сумасшедшем доме на Успенской, откуда по ночам разносились по всей Казани истошные крики.
В первых числах декабря до Казани дошли известия о восстании в Польше.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу