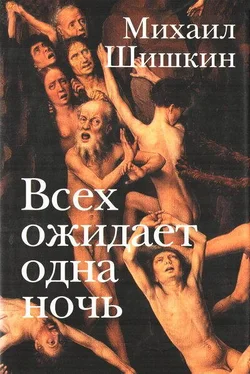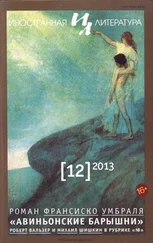Сперва это были смутные слухи об убийствах в Варшаве, потом короткие официальные сообщения, из которых трудно было понять, что происходило там на самом деле. Было ясно одно — то, что было расстреляно и повешено на Украине и в Петербурге пять лет назад, поднималось теперь в Польше и Литве.
В те первые, особенно тревожные дни, когда ничего не было ясно, я набрасывался на газеты, старался в нескольких трусливых фразах отыскать крупицы правды, жадно прислушивался к разговорам, которые снова, как той зимой, велись испуганным шепотом.
Слухи ходили самые противоречивые, все казалось неправдоподобным, невозможным, и все могло оказаться правдой.
Говорили, что в заговоре весь польский гарнизон Варшавы со всеми офицерами. Заговорщики подняли на ноги город, возмущая жителей тем, что русские будто бы начали резню. Ненависть к русскому царю была такая, что для возмущения достаточно было любой, самой бессмысленной лжи. Во главе бунтовщиков были школы подпрапорщиков и студенты. Русские полки были окружены прямо в казармах, и огонь обрушился на сонных. К своим соплеменникам, оставшимся верными русской присяге, восставшие были безжалостны, даже более жестоки, чем к русским. Рассказывали, и это подтверждали газеты, что были убиты польские генералы, не пожелавшие примкнуть к восстанию. У всех на слуху были имена этих людей: Гауке, Трембицкий, Жандр — они пытались образумить прапорщиков и студентов и были растерзаны толпой. Еще говорили, что все варшавяне вооружаются, готовясь умереть с оружием в руках, но не сдаваться русским войскам, и что на стенах они пишут по-русски: «За нашу и вашу свободу!»
Нольде приходил ко мне каждый вечер, долго откашливался, отдувался, пил свой зеленый чай с молоком и принимался уверять, что поляки бесятся с жиру. От своей бурды он делался весь мокрый, с висков текли капли, и старик не успевал промокать их платком.
— Поверьте мне, Александр Львович, это взбалмошный, вздорный народец! Еще Фридрих II сказал, что нет подлости, какой бы ни сделал поляк, чтобы добыть сто червонцев, которые он выбросит потом за окно! У них и слова-то такого в языке нет — честь, у них не честь, а гонор! Ничего, ничего, вот увидите, Александр Львович, они свое получат!
Я смотрел на Евгения Карловича, на этого доброго, в сущности, старика, к которому я относился чуть ли не с сыновней нежностью, и не понимал, что вдруг произошло с ним, будто передо мной сидел совсем другой человек. Казалось, будь Нольде помоложе, он сам бы ринулся добровольцем усмирять поляков. Это превращение так меня поразило, что я лишь молча выслушивал Евгения Карловича и ничего не говорил в ответ, видя всю бессмысленность и бесполезность любых моих доводов и суждений.
Мне стало страшно приходить в канцелярию.
Я думал встретить в моих сослуживцах, людях недалеких, но не злых, если не сочувствие к восставшим, то хотя бы понимание. Какое там! Среди людей я вдруг оказался как на необитаемом острове. Вернее, я вдруг почувствовал на себе какое-то клеймо, постыдную и опасную отметину, которую я должен был ото всех скрывать. Во время разгоравшихся обсуждений у печки, где собирались греться, бросив свои заваленные стылыми бумагами столы, я еле сдерживался, чтобы не выдать себя ничем, ни словом, ни тоном. Патриотические чувства затмили людям и разум и сердце. Их больше всего возмущало, что поляки, разбойничавшие с Наполеоном в России и прощенные нами, приняли дарованные им права, о которых мы, победители, и мечтать не смели, как должное, — и все им было мало! Загибая пальцы, они перечисляли все несправедливости, которые вынуждены были терпеть русские: и то, что срок службы у поляков всего восемь лет, а наш несчастный мужик тянет лямку четверть века, и то, что войскам их положено такое жалованье, которое нашим и не снилось, и то, что пошлины на их товары снижены, а Россия от этого терпит убытки, и то, что Польша — завоеванная нами страна, а земледелие, промышленность, торговля — все в цветущем состоянии, а у нас что ни урожай, то голод.
Илья Ильич Паренсов, обычно такой добродушный, тут весь принимался трястись от ярости. Он багровел, на глаза наворачивались слезы.
— Какая низость! Какая черная неблагодарность! — кричал он. — Ну, чего им недоставало! Конституции? У России ее нет, а Польше — пожалуйста! Сейм? Будьте любезны! Права? Какие, панове, угодно? А теперь по заслугам мы, русаки-дураки, и получили. Они все, все нас ненавидят! А мы их и тогда рубили, и сейчас порубим! Вот увидите, как еще порубим! Чтобы неповадно было! Неблагодарные мерзавцы!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу