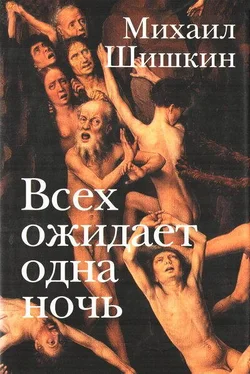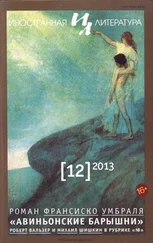В последний раз, осмотрев меня, Вы сказали, что все идет хорошо. Что ж, спасибо и на том. Это ведь первейшая заповедь всякого эскулапа — дурачить нашего брата, безропотного, легковерного, подслащивать пилюлю, как дитяти, словом, вселять надежду. К тому же, Алексей Алексеевич, по Вашей теории (помните ли: эмбрион — водичка, старость есть высыхание организма), в моем нынешнем жидком состоянии я и так сущий младенец.
Этой ночью я чувствовал себя ужасно, почти не спал. Да и как тут уснешь? Ноги горят. В углу что-то шебуршится. За стеной храпит Михайла. В трубе гудит. Часы тикают невыносимо. И еще все время душно. Дышать — пытка; хочешь глотнуть побольше воздуха, а глотаешь дух сырых дров, лекарств и несвежей постели. Велишь открыть фрамугу — оттуда валит снег.
Но все это было ночью, а сейчас, выпив запретный стакан утреннего чая, любезный мой доктор, снова я в моем кресле за столом. От вчерашнего осталась лишь боль в висках. В морозных окнах февральское солнце, в комнатах так жарко натоплено, что уши щиплет, в чернильнице чернила, в песочнице песок, перьев наточил по-римски, calamusʼoм, на целую канцелярию.
То лето стояло сухое и жаркое. Над Казанью висела дымка, пахло гарью. Где-то горели высохшие леса. Саранча залетала даже в город.
Вдруг в конце июля в Казань перестали приходить французские газеты. «Северная пчела», сообщив о королевских ордонансах, замолчала, будто воды в рот набрала, сделала вид, что Франции никогда и не было. Казанские французы высыпали на Большую Проломную с трехцветными флажками, бумажками, у кого что было трехцветного, пели «La parisienne» [27] «Парижанка» (фр.).
Лавиня и кричали в двери каждой лавки: «Révolution! Révolution!» [28] «Революция!» (фр.).
Их тут же отвели на съезжую, и как они ни убеждали начальство, что во Франции произошла революция, были взяты под стражу за разглашение ложных слухов.
Все эти события в бурлившей где-то Европе неминуемо должны были сказаться на нас.
В августе царским указом объявили новый рекрутский набор. Были прекращены отпуска для военных. Говорили, что войска срочно переводятся из-за Дуная в Литву. Всем было ясно, что новой войны не миновать.
Но войну отодвинула холера.
Опустошив Азию, болезнь проникла из Персии в Баку и Ширвань. В июле холера свирепствовала по обе стороны Кавказа, морем пришла в Астрахань и поползла вверх по Волге.
Газеты, стараясь предотвратить панику, писали, что холеры почти нет, что, где и была, уже прошла, и все, что говорят, то вредные слухи. В правительственных бюллетенях медики печатали объяснение заразы и способы, как предохраниться от нее. Располагающими причинами к холере назывался сырой воздух, особенно после теплых дней, жирная пища, а также сырая капуста и репа, недоброкачественное питье в виде кваса и меда, неумеренность в пище, низкие болотные места, легкая одежда, не защищающая от простуды, уныние и беспокойство духа и еще Бог знает что. Население призывали избегать излишнего употребления муки и чеснока, не пить кислых щей, молодого квасу. Чтобы уберечься от заразы, советовали пить вместо чая ромашку или мяту, тереть ежедневно все тело, а особенно ноги, теплыми суконками, расставлять в жилищах в разных местах раствор хлорной извести. Действительно, во всех домах курили ладан, и всюду был запах хлора.
Страну изрезали карантины. Письмо от матушки я еле-еле смог прочитать — пакет так обработали хлорным раствором, что расползлись все строки. Матушка писала, что в Симбирске холеры еще нет, но они переезжают в деревню, будут пережидать там. Еще матушка писала, что прощает мне все: «Противно, конечно, умереть не по-людски, а вот так, в корчах да неприглядности, но что поделаешь, все под Богом ходим, а я уже, сыночек мой, ко всему приготовилась».
Во всех церквах шла служба. У Петропавловского собора я столкнулся со Шрайбером. Он сказал, что все болезни в Казани стали заметно уменьшаться.
— Поразительное дело, Александр Львович! За неделю принял только роды, и все. Люди со страху перестали болеть!
В канцелярии в те дни было особенно душно, и время тянулось медленней. Все слонялись из комнаты в комнату, говорили вполголоса. Холеру в городе ждали со дня на день.
Генерал Паренсов стал приходить на службу ежедневно и сам весь переменился. Благодушный старик подтянулся, стал жестким, хмурым, следил, чтобы все были на местах, требовал, чтобы строго соблюдались все противохолерные предписания. Паренсов шагал по своему кабинету как заведенный, изредка лишь останавливался у окна и крестился на собор. Там беспрестанно звонили колокола. Когда кто-то из чиновников под предлогом недомогания хотел отпроситься, чтобы вывезти семью из Казани, Илья Ильич набросился на него:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу