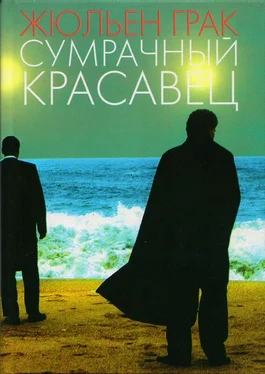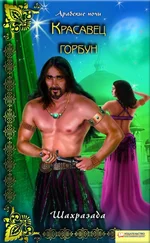Высунувшись наружу, я заметил этажом ниже Кристель: она тоже стояла у окна и глядела на пляж. Я уверен, аболютно уверен, что она высматривала его, — а он сейчас был просто одной из бесчисленных черных точек, усеявших песчаную впадину у подножия отвесной скалы, искушением и мукой для ищущего взгляда, — в этой Сахаре, которая так щедро расточает соль и палящие лучи солнца.
Вечером я провел несколько часов в беседах о литературе с Анри Морвером. После нескольких полушутливых, полусерьезных, а в общем, невнятных намеков касательно "здешней странной публики" он принялся злословить о женщинах. Правда, не приводя конкретных примеров и не переходя границ приличия. Он с самого начала показался мне вялым и нерешительным, а в последние дни — особенно: у него неприятная манера надолго замолкать, а потом возобновлять разговор нехотя и небрежно, — словно это окурок, которым пытаются затянуться еще один, последний раз. Сегодня вечером я ясно увидел в нем за блестящими манерами какую-то инертность, безвольную растерянность. Раньше я думал, что этот человек просто скучает, теперь же я понял: он мечется. При его характере он обречен на то, чтобы им командовала волевая женщина, а сейчас, по-видимому, он попал в сферу притяжения другого светила и находится между двух огней: для таких зависимых натур нет ничего хуже.
18 июля
В последнее время, беседуя с Грегори, я проявляю повышенный интерес к Аллану. Но я решил хотя бы в этом дать себе волю, поскольку прилагаю неимоверные усилия, чтобы не проронить при нем ни слова о Долорес (и все же спасибо тебе, Грегори: от тебя я узнал ее имя). Я нарочно искал встречи с Грегори, он ведь друг детства Аллана, и это была ниточка, связывавшая меня с Четой, не дававшая мне заблудиться в пустыне — пока мы беседовали, я чувствовал себя не таким жалким. Я невольно думал: если сейчас мы встретим Аллана и Долорес, они обязательно подойдут к нам и поздороваются, и эта мысль приятно щекотала мое тщеславие — вот до чего опустился "подающий надежды выпускник университета". Достаточно было появиться какому-то лощеному типу, а быть может, парочке авантюристов, гастролирующих по шикарным отелям (я уже несколько дней не в духе. Долорес уехала вчера — на день-два, на неделю, возможно, и не на одну, сказал мне Грегори. Ах! Только бы…).
Я так надоел Грегори своими расспросами, что сегодня утром он прислал мне письмо: этот славный малый извинялся за то, что ему пришлось ненадолго уехать, однако, зная, какой интерес я питаю к его другу, он "позволил себе" предложить моему вниманию несколько листков, на которых вчера ему вздумалось набросать "разные воспоминания, разные мысли и пророчества — если это не звучит слишком громко". Взяв эти листки, я покраснел, как ребенок, уличенный в обмане: меня буквально поймали за руку. Я не ожидал от Грегори такой проницательности. Но мне не терпелось заглянуть в его заметки, и я не мог думать ни о чем другом.
Привожу здесь почти без изменений это захватывающее полицейское досье. Ибо воспоминания Грегори как бы сами собой, без авторского умысла, приняли именно такую форму. На каком процессе они должны были фигурировать? В каком запуганном расследовании могли помочь? Как бы то ни было, этот рассказ, совершенно непреднамеренно, представлял своего героя в странном, зловещем свете, и я, прочитав его, не мог избавиться от мрачного впечатления. Поистине, нас могут выдать только те, кто нам ближе всего.
"Аллан Патрик Мерчисон родился в Париже в 19…. году, его отцом был англичанин, вскоре после его рождения принявший французское гражданство, матерью — француженка. Отец Аллана был театральный антрепренер и, кажется, обладал значительным состоянием. В юности Аллана несомненно окружала роскошь, непомерная, бездумная, своенравная, почти нереальная роскошь, какою сопровождается жизнь в постоянных разъездах, в дорогих отелях, на модных курортах, лестные, но мимолетные знакомства с актерами, писателями, музыкантами — атмосфера, напоминающая двор юного принца из романтической сказки, — и Аллан, конечно же, не мог тогда понять, насколько все это зыбко. Еще в раннем детстве он был очень красив, с ним носились, его баловали, — он замечательно умеет расположить к себе, в нем есть такая инстинктивная живость, фация резвящегося молодого зверя, за которую ему все прощаешь и которую он обретает еще и сегодня, когда захочет: именно это делает его таким неотразимым в глазах женщин.
Читать дальше