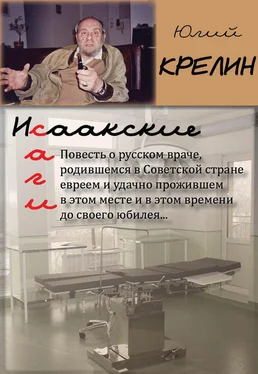Он осмысленно считал, что, делая добрые дела, он облегчает работу себе и всем вокруг. Любя себя, легче любить других. Особенно это важно в их работе. Личное выше общественного, потому что только через личное хорошее можно улучшить хоть что-то вокруг.
И еще раз хмыкнул: «Прекраснодушие и чистоплюйство. Однако». Под гул комплиментов Борис Исаакович стал было вспоминать, сколько он на самом деле сделал хорошего: скольким помогал, скольких вылечил, обласкал, сколько людей он радовал беспрестанно — не учил, но радовал, любил и как любили его. Любовь ведь и есть рождение радости. Обоюдной радости.
«Не знаю, спасет ли мир красота, — четко и ясно, формулировкой, словно в своей статье, произнес про себя Борис Исаакович, — но любовь помогает существовать уже много веков, а в последний век, это единственное, что держит мир, более или менее, угодным Богу. Эх! Дед-моралист я стал. Ханжа».
Внезапно отключилось зрение, слух, порвались все связи юбиляра с современным миром, что существовал вокруг и продолжал праздновать его день рождения.
Сидевшие в зале вдруг увидели, что рука Бориса Исааковича безвольно, без всякого признака костей внутри ее, свалилась с подлокотника кресла, голова чуть откинулась назад, а одна нога дернулась и вытянулась вперед.
Кресло юбиляра стояло на всеобщем обозрении отдельно в углу сцены. Цветы чуть поодаль, чтобы не загораживать от зала главное действующее лицо торжества, и потому все произошедшее оказалось весьма наглядным и даже демонстративным. И на большом расстоянии все, кто в этот миг смотрел на него, отчетливо разглядели гибельную бледность, почти мгновенно сбросившую краски с шеи и подбородка. Лица было не видать — шея, подбородок и торчавший над ним нос. Подбежавшие к нему коллеги, пульса прощупать уже не могли… Отдельные последние дыхательные судороги… и ни звука. Сразу могильная тишина.
Больно! Жуткая боль! Терпеть такую боль невозможно… Не-вы-но-си-мо!! Где Карина?
Совсем маленький мальчик схватил какую-то рогатую дощечку с белым шнурком и, спрятав ее за спину, задним ходом быстро, быстро скрылся в дверях. А следом прибежал рабочий и с громкими ругательствами требовал от мамы отдать их инструмент. Боря смотрел в окно и упрямо твердил, что ничего не брал, а как эта штучка оказалась здесь, у него, он совсем не знает. И сколько рабочий ни утверждал, что он не может не верить своим глазам, мальчик набычившись и прикрыв глаза, наполняющиеся слезами, продолжал подскуливать: «Не брал я, не брал. Не знаю». Он хотел было произнести сакраментальное детское заклинание того времени: «честноленинскоечестносталинскоечестновсехвождей», но что-то его удержало — святое чувство самопроизвольно родило табу на кощунство.
Потом он почувствовал себя на коленях у мамы. Он плакал, мама плакала и утешала его, а папа ходил вокруг и негодующе пыхтел. Это был высший знак недовольства и возмущения. Время от времени из папы исторгались предположения о грядущих ужасах ожидающих этого носителя столь гнусных черт характера. Мама и Боря в ответ еще более горестно заливались, кто слезами, а кто все отрицающим подвыванием… А трава такая зеленая, зеленая! И солнце слепит прямо в глаза.
Не-вы-но-симо! Я ж был совсем мал. Несмысленыш. Абсурд. Сколько ж может продолжаться такая адская боль! Грудь разрывает. Раздавливает! Ну, уколите же быстрей. Меня сплющивает!! Часами такую боль не выдержать мне! А-а-а! Невыносимо! Ну, помогите же! Помогите. Где Гаврик! Доченька! Карина!
Подросток стоял у телефонной розетки и что-то с ней выделывал. Все! Удалось! Теперь учителя могут звонить родителям сколько угодно. Не дозвонятся. Будет все время занято. Ха-Ха.
— Боря, ты почему в школе не был?
— Болел. У меня две недели температура была.
— А кто написал эту записку? Это у мамы такой крупный почерк?
— Ага. Честнослово…
Ха-ха! звоните на здоровье. А там, может, эвакуация кончится… А то и война. А эти две недели он весело проводил на рынке. Большие ребята, что вот-вот должны были уйти на фронт, с помощью мелюзги начинали драки, отвлекали людей, обворовывали старушек, и несчастных городских и из деревни приехавших, поторговать своим продуктом. А потом великовозрастные, в скором времени будущие защитники всего этого общества, возвращались к месту драки и выступали пока еще в роли защитников зачинщиков, мелкопакостных шкодников. Большим было все позволено — они уходили на фронт. Ему же тоже было тогда легко и приятно драться — тылы обеспечены будущим фронтом. Заварушку начал Боря. Мальчика, который был явно сильней его, он стукнул по голове зажатым в кулаке ключом. Все мальчишки в то время, по законам военных обстоятельств и непосредственному беспрекословному указанию… приказу школьного начальства, стриглись наголо. Кровь, растекшаяся большим пятном по затылку, была хорошо видна, как и алые потеки, по шее убегавшие за ворот. Сначала его чуть затошнило, но тут он увидел своего старшего покровителя — тотчас прошла тошнота и он опять ударил по голове. А следующие драки уже не сопровождались тошнотой. И плачущие старушки тоже потом не вызывали никакого гнета души, а лишь гнев на то, что они жаловались милиционерам. И тогда же, в то же время, он увидел себя, висящим на трамвайной подножке со скрученной толстой веревкой и хлещущим прохожих, мелькавших мимо быстро бегущего вагона. И ослепляющий огонь солнца. Прохожих уже еле видно. Гаврик! — они не подставляли щёк, не успевали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу