— Как мило с вашей стороны, — говорит Кризи.
Мило? Эта формулировка меня озадачивает.
— Я ведь говорил, что приеду.
Она меня не слушает.
— А вот моя испанка, — говорит она.
Я поворачиваюсь к женщине, открывшей мне дверь. У той костистое лицо, крупный нос, квадратный рот, большие глаза навыкате, которые пристально смотрят на меня. На ней надета длинная строгая блузка с закрытым воротом нежно-голубого цвета, из ткани сильно напоминающей клеенку. Она ей совершенно не к лицу. Кости ее лица чуть сдвигаются; вероятно, это движение означает улыбку. На всякий случай я говорю: «Браво!» Браво, но в связи с чем?
— Ее зовут Снежина, — говорит Кризи. И добавляет: — Всякие иностранные имена меня раздражают. Я перевела.
Я говорю:
— Здравствуй, Снежина.
Снежина один раз уже улыбнулась. Больше она не улыбается. На какое-то время мы застываем в ожидании, непонятно только, в ожидании чего. Кризи смотрит на меня. Лицо Снежины ничего не выражает. Я пребываю в нерешительности. Такое со мной иногда случается. В подобные моменты мое внимание притупляется, и мне приходится сделать над собой усилие, чтобы понять, о чем я думаю. Как будто мы, все трое, стоим и одновременно отсутствуем. Как будто, стоя в прихожей, в этом неопределенном месте, мы размышляем, куда же это нас сейчас поведет. Наконец, Кризи направляется в большую комнату. Я иду за ней. Сегодня на ней оранжевые брюки, водолазка нежно-салатового цвета, золотой пояс, состоящий из множества цепочек. Я уже сказал, что ее квартира была как аэропорт. Такая она и есть, совсем как аэропорт. Такая же голая, такая же пустая и в определенной мере такая же просторная. Весь задний план занимает огромный витраж. Средняя створка открыта. За ней — терраса. Эта living-room (слово меня раздражает, но другого у меня нет; Кризи называет его своей трахоюрум, но и это не самый лучший вариант), итак, эта living-room занимает два этажа, чем и объясняется своеобразное расположение окон, на которое я уже обратил внимание: те окна, что поменьше, находятся в небольших по высоте помещениях — на кухне и в ванной. Расположенная напротив витража железная лестница ведет в галерею, образующую над прихожей еще одну комнату. В салоне есть стол, прикрепленный к стене своей узкой стороной; его можно поднять и прижать к стене, в настоящий момент он поднят, на обратной его стороне видна приклеенная туда огромная фотография Кризи, фотография грубая, обрезанная над глазами и под подбородком, в серо-черных тонах, очень зернистая — фотография людоедки.
Еще там есть телевизор, электропроигрыватель, длинный и узкий диван, лампа, или, скорее, осветительное устройство, состоящее из металлической арматуры и белых, торчащих в разные стороны трубок. И наконец в углу — сваленные в кучу — пластинки, каталоги, какие-то конверты, чемоданы. Палас на полу — аспидного цвета. Стены — лимонно-желтого. Справа на стене — плакат, рекламирующий стиральную машину; слева — Багамы, Кризи на водных лыжах выскакивает из морской пены; в глубине — Кризи в банановых бермудах отдыхает на фоне нескольких бунгало: посетите Коморы, Кризи стоит возле плаката с Багамами. Возникает ощущение, что на плакате спроецирована ее тень, тень необъятных размеров, в лучах прожектора, нет, даже и не тень, а как бы она сама, отброшенная туда, вырванная из самой себя, украденная у самой себя, превратившаяся в эту великаншу, нависающую над нами на фоне неба, расцвеченного гирляндой флажков. В моем бокале звякают льдинки. Внезапно мне начинает казаться, что на фоне этой великанши, обступившей Кризи со всех сторон, сама она больше не существует, точнее, она — везде, что я нахожусь в городе, в котором все здания — это Кризи, в коробке, в которой все стенки — это Кризи, и они наступают на меня, стискивают меня: Кризи в пене волн, Кризи в небе, перерезанном флажками. Льдинки звякают опять. Видение рассеивается. Плакаты отступают. Остается одна Кризи. Хочу ли я ее по-прежнему? Я не нахожу больше ничего от того порыва, который охватил меня в аэропорту и все еще сохранялся в машине, пока я ехал к ней, но который странным образом ослаб, пока я шел по дорожке opus incertum. Я не ощущаю ничего, кроме самого примитивного из всех чувств: чувства мужского достоинства. Я подхожу к Кризи. Беру ее за локти. Она высвобождается. Опять беру. Она кладет руку мне на грудь. В руке — бокал. Это не ласка, она пытается меня оттолкнуть. Я беру у нее бокал. Ищу, куда бы его поставить, а поставить некуда. В конце концов, ставлю его на пол. Одновременно туда же ставлю и свой. Кризи не пошевельнулась. Она смотрит на меня. Покусывает губу. Я наклоняюсь к ней. Моя щека находится рядом с ее щекой.
Читать дальше
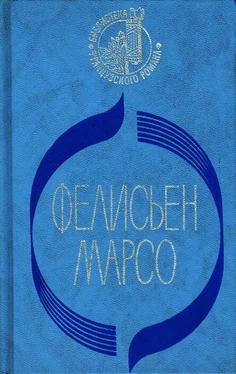


![Джон Кризи - Инспектор Вест [Инспектор Вест в затруднении. Триумф инспектора Веста. Трепещи, Лондон. Инспектор Вест и Принц.]](/books/83349/dzhon-krizi-inspektor-vest-inspektor-vest-v-zatrud-thumb.webp)








