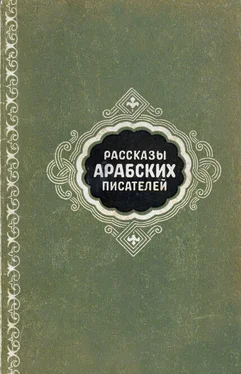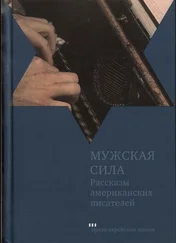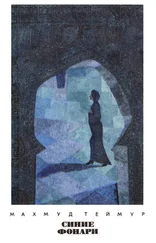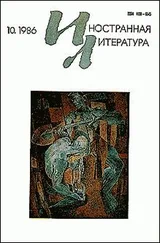— Извините, что прерываю рассказчика. Да будет для вас этот день счастливым.
Мы вышли. Лицо Бутроса пылало гневом. Он схватил меня за руку:
— Какая польза от тебя и твоей науки, если ты не понимаешь, что в доме покойника нельзя говорить «да будет для вас этот день счастливым». Я остановил тебя, когда мы вошли, и ты тогда успел проглотить это приветствие. Что же заставило тебя забыть об этом теперь?
Я сказал:
— Оставь свои упреки, Бутрос, и скажи, где ты прочел то, что рассказал сейчас в доме покойника?
— Я слышал этот рассказ от своего деда на похоронах старшины деревни.
— А где же прочел его твой дед?
— Наверно, узнал от своего деда.
— Тогда ты в другой раз передавай историю точно и говори: — Мне рассказал ее дед, а он услышал от своего деда, а этот дед, в свою очередь, узнал ее от своего деда и так, пока не дойдешь до современников Александра Великого.
Бутрос засмеялся и простил меня. Он сказал:
— Скажу тебе по секрету, если бы мы пробыли в доме покойного около часу, мы бы услышали рассказ об Александре не менее двадцати раз.
Я ответил ему, что, если бы я был на месте семьи покойного, я бы сказал этим людям: — Покойник счастливее нас, он избавился от этого мира и от ваших назиданий…
Мы распрощались с Бутросом и пошли в разные стороны. По дороге я встретил группу людей, среди которых был один мой знакомый. Он сообщил мне, что идет выражать соболезнование семье Таниюса эль-Мурр. Я сказал:
— Я только что оттуда. Да поможет им аллах.
Он ответил:
— Да поможет им аллах и укрепит их.
Я рассказал ему, что я посетил семью покойного, но не сказал им ни слова в утешение, ибо не знаю наших обычаев. Он посмеялся надо мной и сказал:
— Разве это так трудно? Расскажи что-нибудь назидательное и утешь этим людей.
— А что ты собираешься рассказать?
Он начал говорить мне об Александре Двурогом, но я его прервал, сказав, что знаю этот рассказ, и посоветовал догнать своих друзей и поскорее утешить семью покойного. Да поможет ей аллах, да укрепит ее терпение и да помилует ее!
Перевод В. Шагаля
Умм Авад готовила орехи и миндаль для начинки теста. Внезапно она почувствовала какое-то тягостное беспокойство. Прервав песню, которую она тихо напевала, Умм Авад вытерла руки о край одежды и вышла во двор. Гнетущее чувство не оставляло ее. Кругом все было погружено в молчание, которое нарушалось лишь приглушенным журчанием ручейка, пересекавшего двор. Этот звук обострял ощущение одиночества. Умм Авад до боли захотелось, чтобы в эту минуту с ней рядом была какая-нибудь живая душа — соседка Умм Хамид или кто-нибудь из женщин, навещавших ее и доставлявших своей болтовней маленькое развлечение.
Испуганная, растерянная, стояла Умм Авад во дворе. Услышав звук поворачиваемого в замке ключа и увидев своего мужа Абу Авада, она с облегчением вздохнула и вернулась на кухню, говоря:
— Слава аллаху за достаток… Мужчина — опора жизни, да продлит аллах его годы…
Абу Авад прошел в свою комнату. Он шел медленно, опираясь на палку. Спина его была сгорблена больше, чем обычно, словно кто-то возложил на него тяжкую ношу.
Умм Авад давно привыкла к его угрюмому молчанию и никогда не пыталась нарушить установившийся порядок упреком или жалобой. Подобно большинству женщин Востока, она знала, что не имеет права жаловаться на мужчину. Но не только это заставляло Умм Авад сдерживать упреки, было еще нечто, что увеличивало тяжесть молчания, воцарившегося в их доме. Нечто тяжелое и горькое… Умм Авад беспрестанно пыталась отогнать от себя воспоминания, которые всякий раз приносили ей боль.
Умм Авад была единственным ребенком у своих родителей. Она покинула родимый кров и вошла в этот дом. Многое стерлось уже в ее памяти, но она никогда не забудет, как несколько женщин окружили ее, расчесали ей волосы, белым порошком покрыли лицо, нарисовали на бровях черные линии и усадили на лошадь. Вслед за ней целый кортеж двинулся в далекую деревню. Вокруг непрерывно стреляли.
Как она боялась мужа — этого чужого человека — в первую ночь! Но утром она ни единым словом не высказала своих чувств. Какой-то внутренний толчок побудил ее тихонько встать, пока Абу Авад еще спал, до блеска начистить его новые красные ботинки и поставить их у постели.
Жизнь ее потекла размеренно. Спокойствие было нарушено лишь рождением Авада. Сын заполнил всю ее жизнь. Он рос цветущим, здоровым, сильным мальчиком. Но вот пришел черный день, когда все исчезло, рассыпалось, подобно куче земли, когда по ней ударит дитя ифрита [14] Ифрит (араб.) — злой дух. — Прим. перев.
. Рухнуло все — радость, надежда, опустилась высоко поднятая голова…
Читать дальше