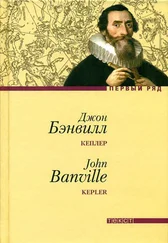Поначалу Добряк вообще не смотрел на нее, делая вид, что не заметил ее появление. Затем, не отрывая взгляда от зрителей, он стал медленно двигаться вокруг нее странной крадущейся походкой, высоко поднимая ноги и сужая круги, пока не подошел настолько близко, что смог коснуться рукой ее плеча. Но он продолжал двигаться, увлекая ее за собой, так что девочка стала как бы осью, вокруг которой он оборачивался. Лицо ее становилось все более неуверенным, а на губах то вспыхивала, то угасала тревожная улыбка, словно мерцание перегорающей лампочки. Лили не отрывала взгляда от лица Добряка, хотя он на нее до сих пор не посмотрел. Наконец он обратился к ней, произнося слова такой же монотонной скороговоркой, которой только что бросил вызов публике, но с мягкой, почти нежной, ласковой, вкрадчивой интонацией. Странный голос, приторно-медоточивый, но неприятный — льстивый, заставляющий расслабиться голос сводника. Все медленней и медленней двигался он, ни на секунду не прерывая свою речь, все медленней и медленней следовала за ним Лили; наконец оба замерли, и что-то прокатилось по зрителям, какая-то волна, прокатилась и тут же утихла. В наступившей тишине Добряк продолжил изучать нас со своей тайной лисьей улыбкой, не отражающейся в глазах. Взгляд Лили стал совершенно пустым, а руки безвольно повисли, будто превратились в желе. Наконец, Добряк посмотрел на нее. Осторожно, словно она была хрупкой статуей, которой он только что придал искомую форму, убрал руку с ее плеча и несколько раз повел ладонью перед ее лицом. Лили не моргнула, не шевельнулась. И снова по зрителям прокатилась волна, снова все вздохнули одновременно. Добряк повернулся и, прищурившись, окинул нас пронизывающим взглядом. Какие они тонкие, эти растянутые в улыбке губы, какие красные, словно свежий рубец. Он взял Лили за руку и повел ее, безвольную, к краю арены.
— Ну? — обратился он к нам тихим, еле слышным голосом. — Что мы заставим ее делать?
Как-то раз, давным-давно, я увидел свое отражение в зеркале в комнате матери. Я совершал очередной обход дома, одинокое и бесцельное обследование. Дверь в спальню была приоткрыта, и когда я проходил мимо, краем глаза уловил быстрое движение, мгновенную яркую вспышку, сверкнувшую как нож, словно в комнате засел убийца, застигнутый врасплох за своей тайной работой. Я замер с бешено бьющимся сердцем, боязливо отпрянул от двери, мое отражение в зеркале на туалетном столике тоже отступило, я вдруг представил себя тем, другим, незнакомцем, таящимся в темноте с непостижимой, зловещей целью, и почти с наслаждением ощутил, как по спине прокатилась дрожь ужаса. То же самое я испытал и сейчас, когда встал и решительно двинулся вперед, ступая легко, словно в крылатых сандалиях самого Меркурия, проворно забрался на арену и замер, высоко подняв голову, чуть покачивая руками, в позе атлета, завершившего демонстрировать свое мастерство. Какое странное ощущение — вновь ступить на подмостки. Сцена везде остается сценой, где бы ни шло представление. Для меня она словно трамплин, в ней ощущается пружинящая сила, упругость, от которой замирает сердце, как перед прыжком; иногда она словно покачивается и провисает, иногда становится тугой, как кожа у барабана, и такой же тонкой, натянутой над бесконечной пустотой. Нет страха сильнее того, что познаешь, стоя на ней. Я говорю вовсе не о боязни перепутать слова роли или уронить парик — эти несчастья значат для нас много меньше, чем воображает публика. Нет, я говорю об ужасе перед собственным «я», перед опасностью дать своему естеству слишком большую свободу, так что однажды во время спектакля оно вырвется на волю, полностью отделится и станет кем-то другим, оставив лишь говорящую оболочку, ошеломленно застывший пустой костюм, над которым торчит безглазая маска.
Я взял руку Лили, ту, которой не завладел Добряк, и сжал в ладони.
— Меня зовут Александр Клив, — произнес я громко и решительно. — А это моя дочь.
Когда вставал с места, я не знал, что именно собираюсь предпринять, и сейчас, конечно, тоже не понимал, что говорю и делаю, но прикосновение холодной, мягкой, безвольной ладошки Лили неожиданно вызвало судорогу такой пронзительной, необъяснимой печали, что я споткнулся и едва не упал; в мое распахнутое сердце словно капнули концентрированной кислотой. Добряка, кажется, совсем не удивило мое неожиданное появление. Он ничем не выдал свое замешательство, не дрогнул, просто продолжал стоять с задумчивым, почти печальным, видом, чуть склонив голову набок, опустив глаза, скривив хищный красный рот в своей фирменной знающей улыбке, как лакей, который узнал своего переодетого государя, и держит секрет при себе, но не из преданности, а по соображениям личной выгоды. Понял он, кто я? Не хочется даже думать об этом. Лили вздохнула; на лице ее застыло сосредоточенное, отрешенно-задумчивое выражение, характерное для лунатиков. Я позвал ее, и по телу девочки прошла слабая, едва заметная дрожь, она судорожно вздохнула и снова застыла. Добряк качнул головой, прищелкнул языком, словно мягко предостерегая. Мы еще померяемся с ним взглядами. Я уловил его тайный запах, слабенький тухлый, трусливый запашок. Кусок брезента, закрывавший вход за его спиной, не опустили, оставив маленькое неправильной формы окошко, за которым лежала залитая солнцем площадь. Окрашенный еще не высохшим брезентом в военно-полевые тона воздух был плотным, его словно смяли, чтобы втиснуть внутрь. Публика в недоумении ждала развязки. Люди откашлялись, раздалось несколько сдавленных смешков, кто-то, кажется, задал тихий вопрос, кто-то неразборчиво ответил. Лили начала покачиваться, стоя между нами, протянув руки Добряку и мне. Теперь он взглянул на меня. Да, да, он наверняка знал меня, кем я был и остаюсь. Я видел свое отражение в его зрачках. Мгновение спустя, едва заметно пожав плечами, он отпустил Лили. Она снова покачнулась, на сей раз вбок, и я обнял ее за плечи, испугавшись, как бы девочка не упала. Пока я уводил ее со сцены, кто-то свистнул мне в спину и хохотнул, женщина-трубач наклонилась к нам и выдула грубо-насмешливый звук, но без должного энтузиазма. На улице Лили очнулась, щурясь от резкого света. Я вдохнул запах привязанных лошадей и вспомнил мальчика на площади под дождем, верхом на пони. Лили, закрыв лицо рукой, тихо плакала. Ну все, сказал я, все, все, все…
Читать дальше