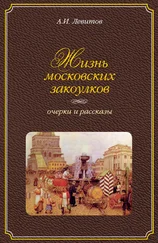Мы спускаемся к пляжу, на сердце у нас печаль — зачем мы сюда притащились? Почему нас тянут старые дюны и волны, которых больше нет?
Мы смотрим в даль и слушаем море.
— Ву немт мен абиселе мазл, — поет оно, — ву немт мен абиселе глик?..
— Ровно в 14, — сказал Чуднис. — В «Дориане». Если я не приду — значит, умер.
Он никогда не умирал — он приходил с деньгами.
— Пятьсот за рассказ, — говорил он, — по — моему, неплохо.
— За какой рассказ?! — удивлялся Вениамин Григорьевич.
— Ваш рассказ! «Ленинградская мелодия».
— Но он же не опубликован.
— Будет. Редактор обещал. Вы знаете, если европейский редактор…
— Послушайте, Чуднис, он же еще не написан…
— Но вы мне о нем рассказывали. Этот образ блокадного мальчика, который бредет по Афинам, с украденным персиком в зубах. Скажите честно, это вы? Впрочем, можете не отвечать. Держите деньги, — он всовывал бумажку в карман Вениамина Григорьевича, — и пейте быстрее ваш кофе — через десять минут интервью!
— Какое интервью, Чуднис?
— «Трибюн». Тип — мерзавец, не говорите ему ни слова правды, ни слова о нашей мечте, об изгнании — он надсмеется над всем. И вы не еврей — вы русский, иначе он не возьмет интервью.
— Почему, Чуднис?
— Потому что он сам еврей. И держите двести франков.
— А это за что?
— Как за что?! За интервью, на которое мы сейчас идем.
Все эти годы Чуднис приносил Вениамину Григорьевичу какие‑то непонятные авансы — за неснятый сценарий, за непоставленную пьесу, за роман, который никто не хотел издавать. И регулярно деньги за интервью.
— Ровно в 14, — говорил он, — в «ДОРИАНЕ». Если я не приду — значит, умер.
Но он всегда приходил — с проектами, которые вскоре проваливались.
— Плюньте! — говорил он, — жизнь прекрасна! Она готовит нам сюрпризы. Надо только уметь ждать. Как подвигается наш роман об изгнании?..
Чудниса изгнали пятьсот лет назад, из Испании, из цветущей Андалузии — так он себя ощущал — и с тех пор он бродил по миру и нигде
не мог прижиться. Он жил во многих странах и отовсюду бежал добровольно.
— Там, где весело, — говорил он, — мрешь от голода. Там, где все есть — мрешь от скуки. Ничего нет лучше момента побега, когда уже не живешь в одной стране и еще не живешь в другой.
— Почему бы вам не вернуться в Испанию? — иногда спрашивал Вениамин Григорьевич.
— Пусть они сначала извинятся, — кричал Чуднис.
Кого он имел в виду — Фердинанда Кастильского, Изабеллу Арагонскую? Никто не извинялся, и он колесил по миру. Он жил в Египте, Коста — Рике, Израиле, в Англии и Индии, а также в Бурунди.
— Я был офицером связи, — говорил он, — всюду я выходил на связь.
На какую — он никогда не уточнял. Он пил мерзкий «Пастис», и после пятой рюмки говорил задумчиво и протяжно:
— Бен, мне кажется, что вы тоже из Испании. Мы шагали вместе 500 лет назад по раскаленным камням Андалузии. Посмотрите, вы узнаете меня?
— Как — же, как — же, — отвечал Вениамин Григорьевич, — вы тогда впервые выходили на связь…
Всю свою жизнь Вениамин Григорьевич хотел бросить писать.
После первого рассказа, первой пьесы, первого романа.
После первого сценария это почти произошло. Но потом все начали кричать, что он гений, лучший сатирик и прочую муру — и он опять взялся за перо. Он написал еще много всего, но сочинять так и не бросил.
Бросить писать не легче, чем бросить курить, но насколько эта писанина, если б вы знали, вреднее табака. Одна метафора равняется пачке сигарет, а сколько он придумал этих метафор.
И вот когда он эмигрировал — для бросания открылись самые широкие перспективы, но тут подвернулся этот сумасшедший Чуднис.
— Ровно в 14, в «ДОРИАНЕ». Если я не приду — значит, умер.
— Что с вами? — спросил тогда Вениамин Григорьевич.
— Гм, — сказал Чуднис, — если б я не умел держать язык за зубами — я б никогда не был офицером связи… Зачем вы сюда притащились?
— Меня изгнали из России, — сказал Вениамин Григорьевич.
— Меня из Испании, — сказал Чуднис, — очень приятно. Если вы бросите писать — вас вышвырнут из этой страны. Я офицер связи — у меня большие контакты.
— Чуднис, — вопил Вениамин Григорьевич, — отстаньте от меня! После двадцати лет писания любой писатель имеет право бросить. Тем более на этой земле, где не знают, что такое русский язык, что такое литература, что такое сатира! Зачем печь пирожки с мясом для вегетарианцев? К тому же, у меня есть прекрасное предложение- составлять коляски в местном универмаге. Разве это не венец двадцатилетнего литературного творчества? Если б вы видели, как ловко я с ними справляюсь — одна влетает в другую, у меня от радости светлеет лицо. Зачем мне сатира, когда есть коляски? Двадцать лет литературы! Разве не самое время бросить эту заразу?
Читать дальше
![Александр и Лев Шаргородские Министр любви [cборник рассказов] обложка книги](/books/187569/aleksandr-i-lev-shargorodskie-ministr-lyubvi-cborni-cover.webp)