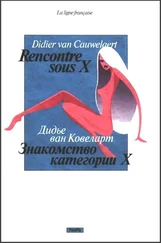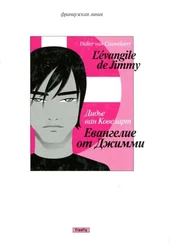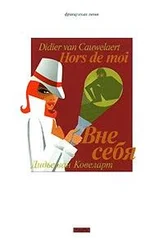— Кто такая Марина?
Его руки вскинулись вверх, словно для благословения, и снова упали. Он снял очки, протер их грязным носовым платком.
— Вы наверняка увидите ее не сегодня-завтра, если еще не видели. Я знаю о ней только понаслышке: в деревню она не ходит. Иностранка, наверное. Никто из здешних жителей не рискнул бы там поселиться.
— Она давно там живет?
Кюре не ответил, сосредоточенно разглядывая свои очки. Я добавил:
— Художник, который был здесь в прошлом году…
На этот раз мне даже не пришлось договаривать.
Он кивнул с глубоким вздохом, от которого у меня холодок пробежал по спине. И пробормотал как бы про себя:
— Хозяйка дома…
— Что, простите?
— Так он назвал свою картину. Я полагаю, вы побывали в кафе… Он очень талантлив. Как и все, впрочем. Дизайнер, музыкант, краснодеревщик… Все, кто поддался чарам. А вы чем занимаетесь?
— Держу химчистку.
Он вскинул на меня глаза с искренним удивлением; вовремя осознав, что оно обидно, улыбнулся мне понимающе:
— Душевная организация не зависит от профессии.
— И что с ними сталось?
— Не знаю. Они были тут проездом, как и вы.
— А Гай? Человек, которого зовут Гаем?
Кюре вздрогнул и перестал протирать стекла.
— Гай там?
В его голосе была неподдельная тревога.
— Да. Во всяком случае, сегодня ночью я его видел.
— Как он выглядел?
— В каком смысле?
— По-вашему, он здоров?
— Не знаю. На вид немного…
Я повторил гримасу хозяина кафе. Старый священник опустил ладонь на мою руку.
— Он такой же, как вы, сын мой. Чувствует то же самое, просто не скрывает этого, вот и все.
Я кивнул; мне было не по себе. Он убрал руку и надел очки.
— В четырнадцать лет бедняга осиротел. И стал для всей деревни работником, так и кормился. Здесь, знаете ли, семьи очень сплоченные и между собой связаны через браки, все друг другу сваты-кумовья… Каждый уверял, что он ему родня, чтобы даровую пару рук заполучить. Я решил взять его к себе, дать более развивающую работу… Я ведь тоже ему родня. В то время я еще был кюре этой деревни, и мое слово кое-что значило… Но с тех пор кризис веры и укрупнение в лоне Церкви сделали из меня, скажем так, коммивояжера Господа Бога, совершающего турне по приходам. Пять церквей в радиусе сорок километров: по одной на месяц… С тех пор здесь меня считают кем-то вроде дезертира, предателя. Если б вы знали, сколько ненависти между коммунами…
Он откидывается назад, скрестив ноги под залатанной ризой. Его глаза за грязными стеклами влажны, он улыбается чему-то своему.
— Это был удивительный ребенок, я учил его катехизису… Он был умственно отсталым, но понимал абсолютно все. Постигал не рассудком, не мыслью — на него как будто снисходили… откровения, да, постоянно… Словно им управлял на расстоянии некий внешний разум. Он был у меня служкой, долго. Я мог бы и дальше учить его, развивать душу, может быть, сделал бы из него монаха… Деревня отняла его у меня.
Он опустил голову; было видно, что в нем до сих пор тлеет обида.
— Если он, как вы говорите, с Мариной, это их вина.
Я помолчал, взволнованный впервые услышанным из чьих-то уст именем. Потом спросил, снесут ли военные дом.
— Не знаю. Их ведь недвижимость не интересует, им нужны недра.
— А что здесь, собственно, будет?
— Центр подземных ядерных испытаний, насколько я понял. Сюда переносят установки, которые были в Провансе. Вроде бы здесь у нас лучше с точки зрения сейсмической безопасности. Между государственной тайной и тайной исповеди, сами понимаете, большего я вам сказать не могу.
— Но неужели не было протестов, демонстраций, политических баталий?
— Кому мы нужны, месье? У нас тут ни промышленности, ни исторических памятников, наши депутаты не имеют веса, молодежь разъехалась, туризм, так сказать, в свободном падении, строительство на мертвой точке. Это они и называют «сейсмической безопасностью». Отсутствие реакции со стороны отчуждаемых. Люди получили свои чеки и будут сидеть здесь до последнего. Таково их сопротивление.
Он встал.
— В начале сентября все будут эвакуированы из военной зоны. И вы не задерживайтесь, месье. Вы ничего не можете сделать для той, кого зовете Мариной.
— А что за история у дома?
Поколебавшись, он заговорил, и сомнение по ходу рассказа сменилось чем-то вроде облегчения.
— Драма, давняя. В войну. С тех пор вы все — как мухи. Мухи в паутине. Дом неустанно повторяет одну и ту же историю: любовь, убийство, надругательство… И молодые девушки — в качестве приманки. Не вас первого манят чары… Как говорится, мух не ловят на уксус.
Читать дальше
![Дидье Ковеларт Притяжения [новеллы] обложка книги](/books/187397/dide-kovelart-prityazheniya-novelly-cover.webp)