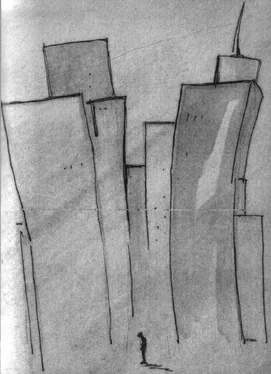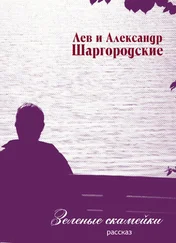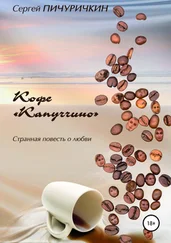— Ни слова, князь!
— Уму непостижимо, — «князь» разводил руками, — это был его любовник «пищевого» периода. Господа, это же всем известно.
— Не мне, — Виль пытался сбросить Штайнлиха с руки.
— Может, потому, что это было на уровне подсознания, — неизвестно у кого спрашивал Штайнлих, — когда суперэго… Фрекен Бок, вам-то это известно?
Фрекен молчала и густо краснела.
— У него была одна любовь, — гордо произнесла она, — всего одна!
И покраснела еще гуще.
— Мать, — начал Доброво, — если вы имеете ввиду Анну Иоановну…
— Я имею ввиду фрекен Бок, — произнесла фрекен Бок и достала фото прыщавого юноши, — вот наш сын…
— Пардон, мадам, — произнес Виль. — Я никогда с вами не спал…
— Мерзавец, — взревела фрекен, — еще не хватало!
— Откуда же дитя?!!
— Мужчины, вы смотрите! Скандал! Как он посмел?! Сравнивать себя с великим писателем. Я не в парандже. Я не из гарема, где вы развлекаетесь. Не смейте обо мне и мечтать!
— Кто мечтает? — заметил Виль.
— Варум? — спросил Штайнлих. — Мечтайте! На уровне подсознания — мечтайте!
— Запрещаю, — вопила фрекен, — даже на уровне подсознания! Я учила его три года, я знаю — он весь на уровне подсознания. Запрещаю!
— Подсознанию запретить нельзя, — ухмыльнулся Штайнлих.
— Бросьте ваши фрейдистские бредни, мать, — вступил Доброво, — во-первых, в России можно, а во-вторых…
— Но речь идет о турке!
— Я наполовину грек! — напомнил Виль.
— Речь идет о моем друге, Медведе Виле Ивановиче!
— Васильевиче, — поправил Виль.
— Вам мало моего друга, наглец-бей! Вы трогаете его отца! Сделайте из него еще Абрамыча! Господин Затрапер, — Доброво дрожал, — поносят славное имя! Разрешите заткнуть пасть?
— Вай? — спросил сэр. — Скоро обед?
— Речь идет о моем друге, сэр, господине Медведе — буйном таланте, диком нраве, необъятном просторе, а из него делают Кафку! У него была русская душа, профессор.
— Не думаю. У Кафки — русская душа? Спорно. Который час?
— Русская, русская, — подтверждала фрекен, — он называл меня «василек».
— Мадам, кто отбирает душу, — продолжал Штайнлих, — но согласитесь — в ней были подавлены сексуальные инстинкты…
— Я бы не сказала, — фрекен Бок опять залилась алым закатом.
— Подавлены, подавлены, — настаивал Штайнлих.
— С кем?! — взревел Доброво, — с Пугайской?! С Нелли Брэд?! Постыдитесь, мать! Это были богини. Нежные. Ноги до плеч. Кудрявые головы. Зовущие голоса. В глазах — Бискайский залив. Если б вы их увидели, мать — даже ваши инстинкты бы возродились.
— Я видел, видел, — успокоил Штайнлих.
— Ну и?!
— Не трогайте мои сексуальные инстинкты! — представитель Лихтенштейна перешел на дискант. — Они подавлены кем надо и как надо! Мы не в России и не в Турции. Они сублимируются на семантике, Сальвадоре Дали и пророщенных зернах! В то время, как у вашего Медведя сексуальная подавленность прорывалась необузданно и дико в сатирическом смехе, едкой иронии и сардоническом эксгибиционизме! Оргазм фразы, столь присущий его творчеству…
Доброво профессионально прижал Штайнлиха к стенке.
— Повтори!
— Мы уже перешли на ты? — удивился семантик.
— Отпусти его, — сказал Виль, — Извержение семени! Вы что не понимаете, мать? — фраза извергает!
— Да, да, обычный лингвистический оргазм, даже студенты понимают, — пищал Штайнлих.
— Заруби себе на носу, мать, — Доброво прижимал Штайнлиха к доске, — русской душе не свойственен оргазм фразы!
— А как же Фет!
— Кибитка, степь, молодецкий посвист — вот русская душа, мать. Оставьте ваш оргазм Лихтенштейну!
— У Лихтенштейна еще оргазм, — удивился Арчибальд, — ему ж за сто?
— Откажитесь от оргазма! — вопил Доброво.
— Оргазму приказать нельзя, — Штейнлих уже хрипел.
— Господа, — фрекен Бок указала на портрет Виля, — он был чист, а мы — только о половых сношениях!
— В сто лет! — повторил сэр. — Удивительно!
— Пардон, мадам, — Штайнлиха выпустили, — мы говорили о фразе.
— Вы ее превратили в сперматозоид! — фрекен заревела. — Если бы герр Медведь знал, что он писал рублеными сперматозоидами…
— Позвольте, я не утверждал — рублеными!
— … Он прожил такую тяжелую жизнь, — она ревела, — его травили, преследовали, ему не давали писать, пить, его в детстве безжалостно била мать.
— Не мать, коллега, а отец, солдатским ремнем! — сказал Штайнлих.
— Перестаньте, — мать, и кочергой.
— Позвольте не согласиться. Если бы вы внимательно изучали его творчество — вы б увидели, кто его бил…
Читать дальше