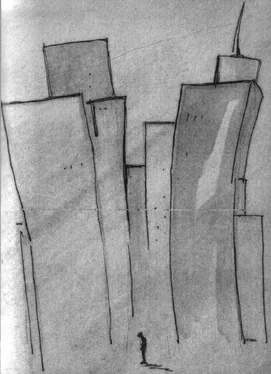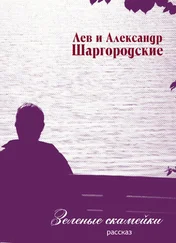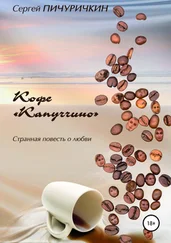— В кафе, — сказал Виль, — в кафе… — его покидали силы.
— Не-ет, дорогой, мы идем в жопу, хотя уже там и сидим… Этот шванц объявляет о создании палестинского государства — я не сплю, за три дня пишу пьесу еще до признания государства Китаем — создаю гениальную сцену выступления Арафата в ООН, шум, мордобитие, израильская делегация покидает зал — высокая греческая трагедия… Так этот шмок Шульц не дал ему визы — и опять я должен все переделывать. Все против меня! Скажи, сколько раз можно переписывать пьесу?
— Нема, я сейчас рухну, сколько сегодня градусов?
— Сорок, пятьдесят, я знаю?.. Тут меньше не бывает… Терпеть такую жару с инфляцией — и не идти ни в одном театре!..
— Если мы не уйдем с солнца, — предупредил Виль, — ты сможешь накатать новую греческую трагедию — «Смерть у Дамасских ворот»…
И Виль влез в японский драндулет. Нема этого даже не заметил — он продолжал негодовать, махать руками, что-то доказывать.
До Виля доносились обрывки фраз: «Если Шарону дадут портфель…», «Если выселят арабов…», «Если уйдут евреи…», потом пошло что-то до боли знакомое: «политические проститутки», «засилье сефардов», «литературная провинция…»
На бушующего Нему никто не обращал внимания: все что-то говорили, к чему-то взывали, что-то требовали, и над всем этим базаром парил крик муэдзина…
Виль оглянулся — на заднем сиденье лежала бутылка «Perrier». Он пил долго, жадно, захлебываясь, потом нажал на клаксон. Нема сел за руль, продолжая что-то доказывать. Драндулет загрохотал по Иерусалиму.
— Поедем в кафе «Хан», — сказал Нема, — там тенисто, там пахнет театром, в котором чуть не пошла моя пьеса.
Они устроились за столиком, в каменном дворе, под оливой. Слева был фонтан, справа — вход в театр — каменная арка семнадцатого века.
— Под ней могли бы идти зрители на мой спектакль, — сказал Нема. — Объясни мне, Виль, зачем я поехал на эту чертову охоту — я боюсь кабана, ружья, просто леса. Это был мой первый и единственный выстрел. И куда я попал?
— В жопу министра культуры?
— Нет, в свое собственное сердце! Я охотился на себя, Виль. Я подстрелил себя — и куда я попал? В захолустье, в страну, где несколько театров, а там только «Любимец партии» шел в ста четырех! Нет, скажу я тебе, плюрализм — это беда, с одной партией гораздо проще. Одна страна — одна партия! И все просто — «Любимец партии» — и сразу же ясно — кто, и сразу же понятно — какой. А здесь… Куда катимся?..
— Тебе хочется вернуться в Россию? — спросил Виль.
— Ты сдурел, — взревел Нема, — кому ты это предлагаешь?! Это мой дом — тут тепло, тут Шамир с Шароном, тут двадцать две партии — и одна лучше другой, а я еще не был в семнадцати! Я уже не смогу состоять в одной! Тут родные запахи, родное небо, ты вдохни, поглубже — как здесь дышится! Да я каждое утро молюсь на правую ягодицу министра культуры! Что бы было со мной, если б я ее не продырявил… Я живу в том же городе, где Бог. Ты знаешь, я начинаю верить в Бога, я хожу в синагогу, в субботу я зажигаю свечу, и ее свет греет мое сердце. А Хануку я провожу с хассидами — ты не представляешь, как мы пляшем, я думаю отрастить пейсы. Если ты приедешь в следующем году, ты меня не узнаешь — пейсы, ермолка, длинная борода… Как ты думаешь, они мне пойдут? Суббота, царица суббота… Пусть только кто-нибудь попробует играть мои пьесы в субботу — мы их закидаем камнями!..
Они бросили драндулет и пошли вниз, к могиле Давида.
— По Иерусалиму надо ходить пешком, — сказал Нема, — как пророки…
* * *
Виль ввалился с жары, с раскаленных иерусалимских камней и увидел дядьку, сидящим перед телевизором, с озаренным взором. Марши неслись с голубого экрана.
— Парад Победы! — торжественно сказал дядька.
Было что-то фантастическое — с могилы Давида, с шука, после еврейской речи и крика муэдзинов, запахов апельсина и фалафелей вдруг угодить на Красную площадь, под марши, по чеканный шаг…
— У меня самолет, — сказал Виль.
— Все помним, — дядька поднялся и взял чемоданы. Виль начал их вырывать. Они долго боролись: кто понесет — победил дядька, как когда-то отец, и они спустились к машине. На балконе стоял Фимка Косой.
— Помаши сумасшедшему, — попросил дядька.
— Бывайте, Фима!
— Прощай, писатель, — презрительно сказал Фима, — не поскользнись. Вино все течет…
Они понеслись на аэродром. Мелькали рощи апельсинов, лимонов.
— Самые сочные в мире, — сказал дядька.
— Исключительные, — улыбнулся Виль.
Читать дальше