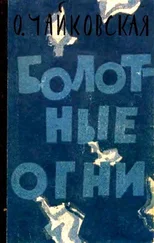Чем больше вглядываешься в духовный мир Толстого того периода, тем больше поражает ощущение одиночества, совершенно овладевшее этой душой. Один-одинешенек висит он в своем колодце — но где же тогда другие, недавно столь любимые и близкие? С ними происходит точно то же, отвечает Толстой. Значит, и любящая жена его Софья Андреевна, и любимые дети, каждый висит в своем колодце и лижет свой мед? Да, настаивает Толстой, каждый в своем колодце. Образ одиночества навязчиво возникает на страницах исповедальной толстовской прозы. Человек то в колодце, то один в лодке, которая плывет жизненным потоком; то висит над бездной, в которую погибельно скользит. Опять один, всегда один.
Душа одинокая, охваченная страхом смерти, не видящая цели жизни, неизбежно должна была искать спасения в религии. Но и сюда Толстой пришел как судья, «один со своим сердцем». Он отверг современную ему официальную церковь, углубился в богословие, в нравственную философию и пришел, наконец, к собственной нравственной системе. Нет бессмертия, человек смертен — бессмертным он становится только своим соучастием в общей работе всего человечества. А главное, Толстой понял всю бесчеловечность жизненной позиции человека, висящего в колодце.
Одиночество эгоизма — это, наверное, самое страшное, самое безнадежное одиночество на свете. И нет, наверное, на свете менее выгодной жизненной позиции. Человек «без обратной связи», то есть не чувствующий окружающих, человек, живущий одними собственными интересами, он неизбежно от других чего-то требует (материальных благ, заботы или внимания), его притязания неизбежно наталкиваются на сопротивление окружающих, все-то он конфликтует, все-то ударяется об острые углы. Эгоизм бесплоден, он сушит душу, сужает круг жизненных интересов (интересно ли это одному висеть в колодце?). Его обкорнанному и часто бессовестному сознанию недоступны те радости, которые ведомы нормальным (то есть тысячью сердечных нитей связанным с другими) людям с нормальной совестью.
Ведь у совести даже в несчастье может быть свое несчастливое счастье.
Однажды в автокатастрофе молодой девушке-студентке сломало позвоночник, а это — пожизненный паралич. Группа, в которой училась девушка, сплоченной не была, скорее разобщенной, но тут она словно бы воспряла, объединилась, возник целый «штаб спасения», который назначал дежурства у постели (дневные и ночные), добывал лекарства, привозил, если нужно, консультантов. Когда она в немыслимых своих муках открывала глаза, рядом неизменно был кто-то из своих. А муки ее были не только физическими, она все прекрасно понимала — что изувечена навеки, что ей уже не встать, что надо вернуть слово жениху, не обрекать же его на вечную жизнь с калекой. Так думала она бесконечными больничными ночами.
Но он так не думал. Я не знаю, были ли у него минуты, когда непосильной казалась ему ноша, которую он собирался взять себе на плечи; что в нем говорило сильнее, любовь или чувство долга. Но он настоял на том, чтобы их свадьба состоялась возможно скорей. Печальная свадьба с прикованной к постели невестой.
Как все это помогало врачам!— и неустанная работа товарищей по группе, и позиция жениха; им удалось поставить девушку — нет, не на ноги и даже не на костыли, а на специальные аппараты. На этих неуклюжих, тяжелых аппаратах вышла она в жизнь.
Я думаю, что ее товарищи помнят это время — тревоги, работы, бессонных ночей — как время душевного подъема и едва ли не счастливое. А для мужа ее настоящим счастьем было видеть, как она делает первые шаги, огромным счастьем был день, когда она защитила диссертацию, и, наверно, величайшим счастьем, когда у них родилась дочь.
Но катастрофические случаи легче заметить и проще описать, куда труднее рассказать о никому не ведомых подвигах повседневности. У профессора и его жены не было детей, вся их любовь была сосредоточена друг на друге. Жена стала прихварывать, а когда обратились к врачам, выяснилось, что у нее страшная болезнь, рассеянный склероз, который неминуемо должен приковать к постели, изуродовать и убить. С каждым годом болезни она все больше чуждалась людей, пряталась от них, рвала дружеские связи, не хотелось ей, чтобы ее видели такой, изуродованной и жалкой. И муж ее в конце концов вместе с ней замкнулся в их квартире (в институте, где работал, организовали его работу так, что значительную часть ее он мог делать дома). Он нигде не бывал, ни в кино, ни в гостях, ни на выставках, которые любил. Он знал: как только уйдет, ее охватит тревога, тоска — и не уходил. Так выключился он из жизни (если не считать работы) и жил рядом с больной. Сам осуществлял сложнейший лечебный курс, который должен был отдалить конец и ослабить боли (а она порой от них кричала). Когда жене совсем отказали ноги, он, инженер, сконструировал специальную скамеечку-коляску, чтобы возить ее к столу и в ванную. Так и жили они несколько лет, пока жена не закрыла глаза навеки. Ее смерть была для него великим несчастьем, но сознание, что он действительно сделал что мог и большего никто на свете не смог бы сделать, дало ему в утешение великие дары — самоуважение и спокойную совесть. Те, кто отдают в больницы своих больных, в интернаты своих стариков, живут вольготнее, но совесть их, пусть и спросонок, пусть и совсем в дремоте, все же зудит, тревожит, точит, во всяком случае создает какой-то душевный дискомфорт. Расхождение с нравственным эталоном (вот почему он должен быть хорошо известен) даже у самых толстокожих должен вызвать пусть неясное, но все же раздражающее ощущение непорядка. Человека с нормальной душевной структурой угрызения совести жгут куда сильнее, зато когда он поступает по совести (пусть с усилием, пусть под нажимом даже, чем-то поступившись, чем-то заплатив), на душе у него не только покой, но порой и некий душевный подъем, похожий (очень похожий) на счастье.
Читать дальше
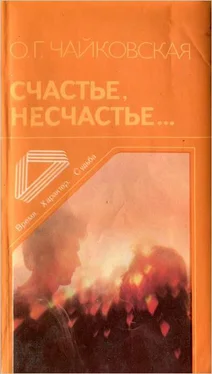

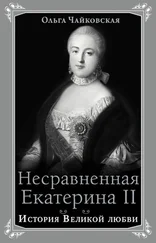
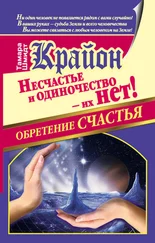
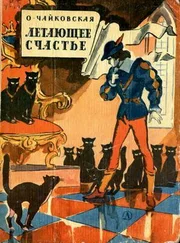
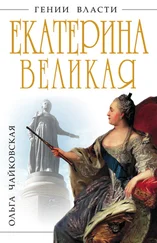
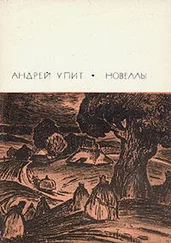
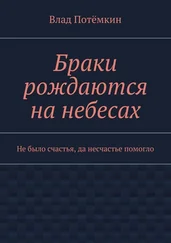
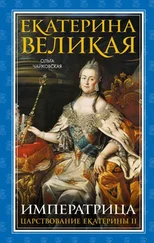
![Ольга Чайковская - Болотные огни [Роман]](/books/424278/olga-chajkovskaya-bolotnye-ogni-roman-thumb.webp)