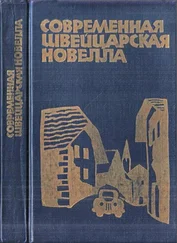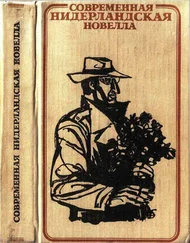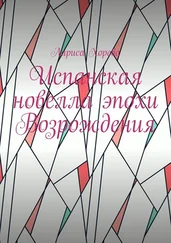— Что ты там делаешь?! Иди сюда — а-а!
Сейчас у Мануэля все по — другому. Он сидел в парке отеля «Сельвия палас», на нем был костюм за 3000 песет и галстук за 50. О ранах на голове он не думал. Рядом с ним была девушка, и она смотрела на него. Несколько недель подряд он лишь мечтал о ней по ночам, а сейчас это было не нужно, да и невозможно, потому что она сидела рядом. То, что он чувствовал к Энкарнасьон, ни в какое сравнение не шло с тем, что было сейчас, и огорчало его лишь одно — упорство дона Рафаэля, полагавшего почему‑то своей обязанностью сопровождать его на свидание. Какая‑то птичка пискнула два раза в глубине парка. Мануэль снова потрогал повязку на голове. Да, об этом не стоило думать, сейчас это было не важно. Нежный аромат духов долетел до него. Он вообще не хотел больше думать. «В твоем возрасте на шишки не стоит обращать внимания», — говорил дон Рафаэль. Ужин прошел спокойно, а сейчас раны снова заболели. Вернее, это была не боль, а сильное жжение. «Да ведь все уже зажило, дурачок». Он знал, что это так, что жгло потому, что они заживали, как и говорил дон Рафаэль. Но он не знал, не вспорет ли бык эти раны завтра вечером, как это случилось в Пальме с его раненым коленом. З адва месяца он не отрезал ни одного уха, а самому ему крепко досталось, но сейчас рядом сидела она, и все было по — другому. Каждый вечер быки, большие и маленькие, настигали его — это был его большой сезон. «Только подумай, какой это год в твоей жизни, а ведь тебе всего девятнадцать», — говорил ему дон Рафаэль каждый вечер перед одеванием.
Внезапно она заговорила, взяв его за руку, словно не могла больше противиться своему чувству и обаянию ночи.
— Я тебя очень люблю, понимаешь, — сказала она низким, глубоким голосом. — Понимаешь, очень.
Глаза ее светились трогательной и таинственной радостью. Когда они поцеловались, вдалеке, за изгородью, послышалось резкое, как удар, слово. Они расслышали только последний слог «…ей», — должно быть, развлекалась какая-то компания, — и тот же мужской голос запел, умело подражая модному певцу и сильно растягивая концы фраз. Но она скоро перестала улыбаться, положила голову ему на плечо, подняла руку и погладила прядь волос между бинтами, потом нежно дотронулась до ссадины на носу.
— Ты не должен был приезжать, — снова заговорила она, — даже если я все устроила и предупредила тебя.
— А где бы я тогда тебя увидел?
— Да, конечно. Но скажи мне, в тот вечер в Утрере что-то случилось?
Мануэль молчал. Опустив глаза, смотрел в землю, словно шестилетний ребенок. Словно раненый шестилетний ребенок.
— Не верь тому, что завтра напишут в газетах, — сказал он. — Наверно, напишут, что мне здорово досталось, но я тебе говорю: бык лишь опрокинул меня. И удар был несильный. Под конец все шло хорошо, и я бы отрезал ему ухо, а то и два, если бы не упал. Но я упал.
Это был тот самый бык, которого он посвятил отцам — салезианцам. Когда вечером его везли вниз на мулах, он вспоминал конец боя, аплодисменты салезианцев и разочарованный вид расходящейся публики. Желток вечернего солнца приклеился к крышам на площади, и он видел, как длинными рядами люди направляются к выходу, а детишки бегают по пустой теперь арене: люди смотрели на него без участия и словно думали, что он был не так плох, во всяком случае, оправдал их надежды и был лучшим среди остальных. Самые важные люди Севильи заполнили первые ряды, и, когда открыли выход на арену, его появление публика встретила аплодисментами, а он, Мануэль Кантеро, опять провел бой ниже своих возможностей, кроме разве первых ударов и нескольких удачных фигур в конце. Он вспомнил, как третий бык, зацепив рогом за туфлю, рывками потащил его по арене; кричали сидевшие близко женщины, он слышал эти крики и, посылая проклятия в песок, пытался защитить забинтованную голову.
— Мне сказали, что по тебе с ума сходит один из этих Росси, — взорвался он вдруг. — Один из этой важной знати, что тебя окружает.
Иногда он не мог сдержать себя, и она смотрела на него широко открытыми глазами. Потом опустила их и снова подняла.
— Армандито Росси, — ответила она. — Он мне нисколько не симпатичен, уверяю тебя.
И вдруг улыбнулась, словно успокаивая его:
— Ведь он ребенок, у него на уме вечно какие‑нибудь глупости, всякие мамбы. Думаешь, мне это может нравиться? Вообще, с тех пор, как я познакомилась с тобой…
Впервые она увидела его на обложке журнала. На фото он казался маленьким мальчиком по сравнению со стоящим позади него высоким тореро, который, как и он, наблюдал За корридой из запасного выхода. Вверху большими белыми буквами на коричневом фоне было написано: «Мануэль Кантеро!» — а внизу помельче: «Солнце Севильи». Какое‑то время она его разглядывала, а потом завернула в эту обложку провод от ночника. Несколько дней спустя к отцу пришел с визитом некий сеньор Фоптибри из Мадрида, и она, беседуя с его дочерью, услышала, как он мимоходом упомянул имя Кантеро. «Да, он хороший тореро», — сказал Фонтибри. И ей припомнилось остренькое личико с обложки иллюстрированного журнала, пелерина плаща, стянутая у подбородка, и затененные беретом глаза, обращенные к арене.
Читать дальше