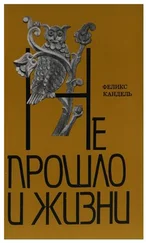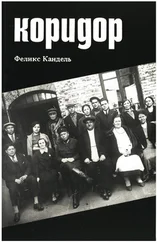Ты идешь дальше и пугаешься неузнавания, вида, облика, цвета, вкуса пищи: переперчено вокруг, перегрето, перешумлено и перемусорено, пережестикулировано и недодумано.
Но ты уже окончательно потерялся в неизвестном, и теперь тебе значительно легче.
– Показать вам дорогу?
– Покажите.
И кузнечик Фишер пошел рядом.
– Что бы я делал… – подскуливал он. – Ах, что бы я тут делал!.. Я бы ходил по улицам и показывал людям дорогу. Ой, это же так приятно! Ведь они же не знают, как пройти и куда. Особенно в новых районах... "Скажите, как пройти...?" – "Прямо и налево". – "Скажите, как проехать..?" – "На семнадцатом, потом на тридцать первом..."
– Фишер, – сказал я, – так в чем же дело?
– Погодите. Дайте взобраться на чердак.
Лифт почему-то не работал, и мы пошли пешком.
Внизу остались те, у кого были еще желания, но не было сил взобраться по лестнице.
Кто-то застрял в лифте, по пути на чердак, и умолял оттуда, упрашивал, скребся ногтями и колотил ногой.
– Зельцер, – говорил задавленно. – Это ваши происки? Откройте немедленно, Зельцер, я сделаю вас заместителем.
По чердаку вышагивал пузатый Зельцер, важный и значительный, словно вел за собою потрясенные народы.
Теперь он был председателем всех комитетов, какие можно только выдумать, а Рацер сидел в лифте и был, конечно, не в счет.
Он ходил по чердаку, председатель Зельцер, с маг-нитофоном в руке, и включал его всякий раз на свои слова, чтобы не упустить ненароком стоющую идею, которая тут же овладеет массами. На чужие слова он его выключал – экономил ленту.
– Зельцер, – сказал ему Фишер. – Там внизу люди. Пустите уже лифт, если вы такой председатель.
– Не нужно им лифта, – отвечал Зельцер. – Пусть подождут немного. Мы им такую жизнь сделаем на земле – и чердак не потребуется.
– Так у них нет времени ждать, Зельцер!
На это он уже не ответил.
– Увековечьте меня, – сказал важно. – И немедленно. В прозе. В стихах. В монументах. Такое у меня есть желание.
И его тут же увековечили.
Ходил кругами возле пограничного столба хилый старик в тулупе, для острастки стрелял в воздух.
Возле него – с этой стороны – прыгал на пыльном полу всеобщий ненавистник Гринфельд и пускал на ту сторону бумажные самолетики.
Этот пускал, а тот их сбивал из берданки.
Влет. Крупной дробью. Только бумага клочьями.
– Гринфельд, что вы тут делаете?
– Просьба, – говорил Гринфельд под каждый прыжок. – Самолетик-заявление. Чтобы назад впускали. Такое у меня непременное желание.
И пускал очередной самолетик.
– Ничего не знаю, – отвечал старик в тулупе. – У других тоже могут быть желания. Не хуже ваших.
Снова пулял из берданки.
– Пустите его, – сказал я. – Пусть лучше оттуда ненавидит. Всё подальше.
– Не пускайте, – сказали с той стороны. – Незачем.
Глядел оттуда, сощурившись, вернувшийся пред-ставитель выехавшей народности, губу кусал в раз-дражении.
– Есть у меня такое желание, – говорил с обидой. – Чтобы вас не было, и земли той не было, и страны не было, и памяти даже не было.
– Вам-то чего? Вы же вернулись.
Подумал:
– А чтобы не царапало.
И Гринфельд пошлепал восвояси, ненавидя теперь уже и тех, и этих.
– Ваши-то! – крикнул издалека. – Снова обгадились!.. Кипучие, могучие, а народ накормить не можете!
И опять меня потянуло в глубины чердака: не ос-тановиться и не остановить.
– Пройти можно?
– Пройти нельзя, – ответил старик с берданкой.
– Да свой я, свой!
– Свой-то свой, а пугнуть всё равно надо.
– На, пугай!
– На кой мне тебя пугать? Пристрелить легче.
– В желаниях-то?
– А хоть бы и в желаниях. Я выехал по принципиальным соображениям. Чтобы было кому надзирать и спасать от уклонений.
– Я знаю, кто вы. Вы – пришелец!
Потупился:
– Не исключено. Пришелец с той стороны.
– Мы все пришельцы, – сказал Фишер из своего закутка. – Как нас только местные терпят?
– На нас долг, – ответил пришелец с берданкой. – Внести единомыслие в здешнее безобразие.
Пульнул по своим.
И тогда я побежал, петляя, через границу, в глубины чердака, а в спину ухали выстрелы, дробь скакала по полу, вернувшийся представитель выехавшей народности ретиво гнался по пятам, чтобы поймать и не допустить, – но я убежал, и я добежал туда, где столик раздвижной, и короб на нем, заждавшийся Абарбарчук со своей недоходной коммерцией, терпеливый и покладистый.
– Что у вас есть?!
– Всё у нас есть, – ответил он. – Эмоции выехавшей народности. Что пожелаете?
Читать дальше
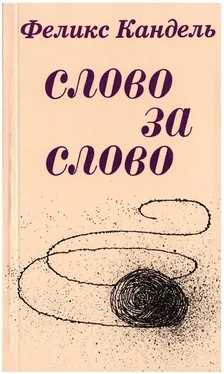




![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)