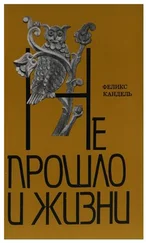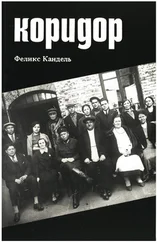На другой день вывернули целую еще лампочку, – почему бы не вывернуть? – и машина окривела на один глаз.
Еще через день вынули блестящий отражатель с патроном, и открылся ход, лаз, пустая глазница внутрь машины.
Потом была пауза. Недели на три. Будто принюхивались, присматривались, прикидывали степень дозволенного.
Ее можно было еще починить. За малые рубли подлатать, исправить, сделать новенькой. Был бы хозяин, были бы силы-желания.
Прокололи для проверки одно колесо, машина осела на бок, но хозяин не пришел, не подсуетился, не позвал на помощь милицию, и они, эти, из окрестных домов-дворов-палисадов, поняли: можно.
Ночью взломали багажник и уволокли инструменты с запаской.
Другой ночью грубо – ломом – задрали капот и унесли аккумулятор, карбюратор, разную мелочишку.
Теперь машина стояла покореженная, расхристанная, и около нее останавливались прохожие, изумленно, горестно, а то и с ухмылкой, качали головами, а кто-то – уже без стеснения – ковырялся с ленцой в моторе, отворачивал на виду у всех, складывал в мешок.
Но машина была еще заперта, и коврики лежали на сиденьях, и куколка болталась под зеркальцем, и кожаный чехольчик на руле... Вот я проходил мимо, и всякий раз казалось: глядит из дома человек, глядит печально и беспомощно, привалившись бессильно к подоконнику, отмечает потери и разрушения в собственной машине, и болезнь его, тоже по этапам, набирает степень дозволенного.
Прибежали наконец дети, влезли на крышу, прыгали с упоением, визгом, криком, проминая ногами слабое железо, и сразу стало ясно: теперь можно всё.
Прокололи остальные шины.
Взломали двери.
Рванули чехол с сиденья, будто платье рванули с плеча, и обнажили кожу шоколадно-атласную.
Унесли коврики, сиденья, руль с чехольчиком.
Куколке оторвали ноги.
Разобрали приборную доску, выдернули с мясом начинку: пучки проводов торчали наружу жгутами омертвевших нервных сплетений.
Машина стояла нараспашку, просевшая, промятая, с задранным, покореженным капотом, а в распахнутом ее багажнике плескалась дождевая вода.
Потом дворники укатили ее в конец переулка. Чтобы не портила им вида. Другие дворники прикатили обратно.
Уже отвинтили все фары. Сняли бамперы. Ручки с дверей. Замки. Пепельницы. Педали. Подняли на домкраты, сняли колеса, диски, тормозные цилиндры.
Потом внутри кто-то испражнился.
Машина лежала на пузе нелепым, промятым обрубком, и прохожие уже не останавливались, и дети уже не интересовались, и лишь изредка копошился еще кто-нибудь с гаечным ключом в руке в поисках позабытой детали.
Пришла зима, завалило снегом по самые окна, сугробы намело вокруг, – не подойти уже, не покорежить, – и болталась внутри, на студеном ветру, как в петле, позабытая всеми безногая куколка под разбитым давно зеркальцем.
Но хозяин так и не пришел...
9
Алик Сорокер, парикмахер, побежал суетливо к Стене Плача, записку сунул между камней: "Боже! Дай ей еще пожить!.."
Цветы на тумбочке.
Капельница над головой.
Иголка в вене.
В углу сидел хасид Вова и читал псалмы.
– Если петух снесет вдруг яйцо, – сказала Хана, специалист по источникам, – будет в доме покойник.
– Какой петух? – всполошился Алик Сорокер. – Вы бредите?..
А она глазами смеется:
– Петух-бормотух. Не велят по милу плакать, Сорокер, велят вздохи воздыхать...
И тогда Сорокер возрыдал молча и побежал к врачу:
– Берите у меня кровь! Для нее! Хоть всю...
– Ей не надо, – сказал врач. – Возьмем для других.
Другим он не дал.
Пришла в гости Любка Макарон, принесла коробку шоколада.
– Ты не разлеживайся давай. Живо-два заживет.
– А то нет, – согласилась Хана. – Берите шоколад. Женщина обязана есть много шоколада.
– Я лучше покурю, – сказала Любка и отвернулась.
Было тихо.
Хасид Вова начитывал псалмы.
Хану утягивало неприметно в глубокий туннель, но она не поддавалась.
– Главное, – сказала, – чтобы впереди было яркое, заманчивое, любопытное до невозможного. Есть – ты живешь. Кончилось – умер.
– Я тебе помру, – сказала Любка. – Мы с тобой летом на Кипр поедем. Отдыхать.
– У меня теперь бессрочный отдых. И ехать не надо. Ты не плачь, чужая тетка, не грусти, родная мать...
Любка ушла в коридор, курила в уголке, носом в стенку, а в холле сидели выздоравливающие и смотрели телевизор.
Вокальный ансамбль "Все там будем, хабиби".
– Боженька, – сказала Любка между затяжками. – Ты бы ей подсобил...
Читать дальше
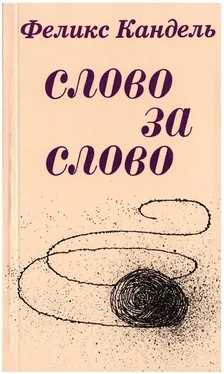




![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)