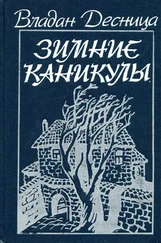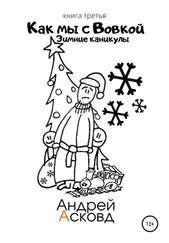Как жить, если ты никому, никому не нужен? И никто тебя нигде не ждет? Неужели так всегда в старости? Или как кому повезет? Или от самого человека зависит?..
Зависит или не зависит, но достаточно понаблюдать на улице: молодежь компаниями, стайками, а старики в одиночку или – редко – вдвоем. Да и смешно было бы глядеть, если бы старики и старушки ходили по улице шумными компаниями... Почему люди чем старше, тем меньше друг другу нужны? Или не в этом дело, а в чем-то совсем ином, в чем сразу не разберешься?..
Майина старость была где-то далеко-далеко, в двадцать первом веке. Так далеко, что, может быть, и там ее вовсе нет, каким-то чудом не будет, все-таки наука идет вперед.
По двору весело бежали, оскальзываясь на примерзшем после оттепели снеге и хватаясь друг за друга, парень и девушка, у парня в руках завернутые в целлофан цветочки. Но бежали они не оттого, что опаздывали или непогода гнала их под крышу, а потому, что таким естественней передвигаться по земле. Как и Майе. Она сама, где только можно, сразу пускается бегом – вверх по лестнице, вниз по лестнице, – все в ней рвется вперед, и ужасно радостно ощущать свою легкость, почти невесомость, почти парение над землей!..
Однако в пудовом больничном халате и тапочках на два номера больше какое уж парение. И еще когда боишься пошевелить головой.
Майя, шаркая, как все эти старушки в коридоре, направилась к палате.
Навстречу шел молодой доктор, терапевт, он Майю, как положено, тоже осматривал, ничего со своей стороны не нашел, что надо бы лечить, а искал долго, старательно. Майе неловко стало, что ничем не может ему помочь, нет у нее болезней.
Легче легкого определить, отгадать, понравилась ты с первого взгляда мужчине или он остался безразличен. Он и то и другое не имеет обыкновения скрывать – хитрить, как по разным причинам приходится женщинам, не считает нужным, в этом отношении мужчины позволяют себе прямо-таки дошколятскую непосредственность. Все у них сразу на лице.
У молодого доктора на лице, правда, было написано всего лишь профессиональное внимание, зато он зачастил в двенадцатую палату, очень, видно, беспокоили его здесь больные, все четверо, Майя, разумеется, не больше других, но шито все было белыми нитками, не успевала закрыться за ним дверь, начиналось веселье. Варвара Фоминична и та оживлялась и принимала участие в безобидном подтрунивании и над доктором и над Майей. А Майя, хоть и смущалась, держала тон: влюбился! Того и гляди, бросит жену и детей! Теперь какую-нибудь болячку отыщет, чтобы дольше Майечку в больнице продержать!.. Ну и дальше в том же незамысловатом духе.
Сейчас доктор приближался к Майе с таким видом, будто близкого человека наконец встретил, которого сто лет уже не чаял увидеть. Майя пожалела, что не причесалась, когда вставала с кровати, поспешно и по возможности незаметными движениями распушила волосы.
– Вот и молодец, уже на ногах, – приветствовал ее доктор. – Как пульс? – Он взял Майкину руку, приложил пальцы к запястью стал считать и смотреть на секундомер своих часов. Ясное дело, мимо всех в коридоре прошел, ничей пульс его не заинтересовал – испытывала скромное торжество Майя.
Пульс оказался нормальным, жалоб у больной не было, кроме той, что никак не починят наушники около ее кровати. Доктор тут же взялся о наушниках похлопотать, прислать монтера, сегодня, пожалуй, поздно, а завтра непременно, доктор, оказывается, дежурит по отделению, будет до утра... конечно, скучно лежать, когда ни радио, ни телевизора, да еще и читать нельзя... Читать немного можно, но кровать от окна далеко, а вечером свет тусклый. Нет, нет, при плохом свете вообще вредно читать, вам же ни в коем случае нельзя... Можно попросить, чтобы вас переложили к окну, на место той больной, которую сегодня выписали... Там дует... Действительно, огорчился доктор. Тут он увидел в конце коридора объемистую фигуру заведующего отделением и, торопливо пообещав не забыть про наушники, с крайне деловым видом направился ему навстречу.
А Майя, испытывая тот подъем духа, при котором мельчают всевозможные неприятности, вошла в палату.
Около ее кровати сидела мать. Она сидела спиной к двери и рассказывала Варваре Фоминичне (Алевтины Васильевны не было):
– ...Мне учиться не пришлось, отец погиб в первый же год войны, ушел добровольцем в ополчение, а мама умерла в блокаду, я ведь ленинградка. Меня с детским домом вывозили по ладожскому льду, перед нами другой автобус, тоже с ребятами, только младшими, ушел под лед, а я думала, что никогда-никогда эта дорога не кончится. И еще – что никогда не буду сыта.
Читать дальше