*
Джемубхаи получил стипендию для обучения в епископском колледже, по окончании которого отбыл в Кембридж на судне «Стратнейвер». По возвращении направлен в далекий штат Уттар-Прадеш.
*
— А слуг — тучи! — уверяет повар. — Сейчас вот я один остался.
Он начал работу в возрасте десяти лет, на жалованье в половину этой цифры. Пять рупий, самый мелкий подсобник чокра в кухне клуба. Помогал отцу, работавшему там же поваром-кондитером.
В четырнадцать лет — следующая ступень карьеры. Судья нанял его за двенадцать рупий в месяц. В те времена еще было весьма важным знать, что если привязать к туловищу коровы, перегоняемой на соседнее пастбище, горшок со сливками, то к концу дня в горшке окажется свежесбитое масло. Что мясо можно хранить в подвешенном за ручку зонтике, закутав его москитной сеткой.
*
— Все время в разъездах, Саи-беби. Три недели из четырех. Только уж когда совсем дожди донимали… Дедушка ваш сам машину вел. Только ведь дорог-то, сами знаете… Ни асфальта, ни мостов. Часто на лошади приходилось, верхом. Где речка глубже, течение быстрое — и на слонах. Мы всегда перед ним прибывали, с обозом, на волах. Мебель везли, фарфор, ковры, палатки — все, что надо. Носильщики, курьеры, стенографист… Печка для палатки-ванной. Даже мурга-мурги в клетке под телегой. Не наши мурги, привозные, и яиц от них больше было, крупные такие…
*
— Где вы спали?
— Всегда палатки ставили. Для дедушки вашего большой шатер, с палатками для ванной, гардеробной, столовой. Кашмирские ковры, серебро… Дедушка ваш к обеду всегда переодевался, даже в джунглях. Смокинг, галстук-бабочка… Да… А мы вперед спешили, и когда дедушка ваш прибывал, все уже готово было, и все дела на тех же местах, на тех же страницах, как он на прежнем месте оставил. А если что не так — ох и сердился же он! И все по часам, все по расписанию, так что все мы научились часы читать. В половине пятого я подавал вашему дедушке обеденный чай на подносе…
«Бедный чай», послышалось Саи, и она звонко рассмеялась.
*
Судья по-прежнему, с тем же непроницаемым выражением лица глазел на шахматную доску, но горечь британских воспоминаний исчезла. Теперь он обратился мыслями к гастрольному периоду своей гражданской службы.
*
Жесткий график бодрил, обширные полномочия ласкали самолюбие. Судьба вознесла Джемубхаи выше тех, кто веками помыкал его предками. Стенографист, например, из касты браминов. Вон он, вползает в свою крохотную палатку. А Джемубхаи укладывается в резную тиковую кровать, плотно занавешенную москитной сеткой.
Повар с утренним чаем.
В половине седьмого ванна. Вода нагрета на открытом огне, отдает дымком, на поверхности плавает пепел. Пудра на лицо, помада на прическу. Похрустывает подгоревший на открытом огне тост, обильно намазанный мармеладом.
В полдевятого — выезд в поля. Свита из местного начальства, присоединяются все заинтересованные и просто зеваки, жаждущие насладиться священнодействием властных персон. Прислужник прикрывает Джемубхаи зонтом. Замеры полей, проверка соответствия документации и реальности. Местные поля дают не больше десяти маундов риса или пшеницы с акра. Кинь по две рупии на маунд — и вот чуть не вся деревня в долгу у банья. Но никто не ведает о том, что сам Джемубхаи все еще в долговой кабале, что в далеком Пифите, штат Гуджарат, сидят на рынке, почесывают пятки и ждут очередных платежей заимодавцы, вложившие деньги в его образование.
Два часа пополудни. Судья принял пищу и сидит за своим столом под деревом, обычно в дурном расположении духа. Ему не по душе неподобающая фамильярность обстановки, непочтительная дырявая тень листвы придает сцене какой-то гротескный оттенок. Более существенные сложности состоят в том, что слушание дел ведется на хинди, стенографист записывает на урду, а затем судья, не слишком сведущий в хинди и урду, переводит переписанные стенографистом начисто протоколы на английский. Неграмотные свидетели безропотно прижимают подушечки больших пальцев к бумаге под напечатанным: «записано с моих слов верно и мною прочитано». Никто не измерит того, сколько истин исчезает между языками, между языком и неграмотностью.
Несмотря на смешение языков и дырявую тень листвы, авторитет судьи рос благодаря его собственной речи, которая, казалось, не принадлежала ни к одному из существующих языков, и недоступному, непроницаемому выражению лица. Эти свойства и обеспечили ему карьеру вплоть до председателя суда в Лакхнау, где его раздражали уже вездесущие и везде гадящие голуби, не признающие никаких законов. Он сурово восседал в своем судейском кресле, увенчанный белым пудреным париком, с белым пудреным лицом, сжав в кулаке деревянный молоток.
Читать дальше
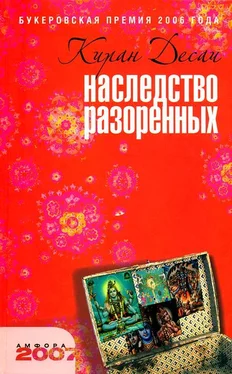

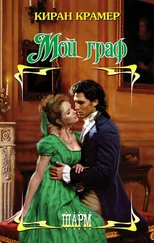





![Елена Звездная - Киран. Дочь воина [СИ]](/books/394166/elena-zvezdnaya-kiran-doch-voina-si-thumb.webp)



