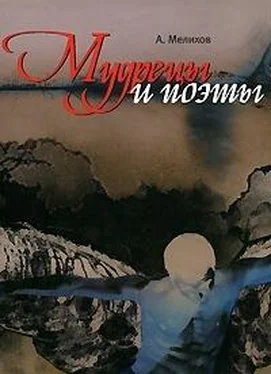Впрочем, здесь делиться впечатлениями все равно было не с кем. А в его глазах тонкий ценитель когда-то значил, пожалуй, не меньше творца, и, кто знает, возможно, присутствие ценителя сумело бы возбудить бы его восприимчивость и воображение…
Музыку он теперь почти не слушал, потому что послушать как следует удавалось не часто, проживая в одной комнате с ребенком и двумя женщинами, считающими высшей деликатностью говорить в это время вполголоса. Притом теща не может слышать ничего мажорного, чтобы не пританцовывать. А когда изредка он оставался один, раздраженные нервы в первое время не позволяли отвлечься от будничных дрязг – он перебирал их в памяти и замечал музыку только тогда, когда пластинка уже кончалась. Это бывало обидно до слез. К тому же по вечерам часто садилось напряжение, и начинал плыть звук. После семилетнего привыкания житейские мелочи уже не производили на него прежнего впечатления, зато и от музыки он отвык, он уже не испытывал желания ее слушать. Однако пластинки все еще покупал. И мог бы безошибочно указать, что хорошо и что плохо в каждой новой вещи, то есть что понравилось бы ему когда-то, а что нет, но прежнего чувства давно не испытывал. Сердце очерствело. Но иногда, как подарок, возвращалось прежнее.
С книгами, так сказать с художественной их стороной, было приблизительно так же. Он понимал: да, это хорошо – и все. До глубины как-то не доходило, вернее, доходило, но чаще всего смутно, глухо, как звук сквозь стену. Он утешался тем, что большинство, как хотя бы та же его жена, живут так, вероятно, от колыбели до могилы. Только воспоминания становились все живее и живее, чему, возможно, способствовали частые упражнения.
Иногда он начинал искать прибежища в проницательности, в которой, однако, было больше мелочности и желчи – благ один бог, и то лишь потому, что всемогущ и ему никто не может повредить, – и ему льстило, что он всех видит насквозь. А иногда казалось, что жизненные его неурядицы происходят из-за независимого нрава, неумения подольститься, тем более что жена была убеждена в этом, хотя, как правило, независимый нрав лишь довершал начатое. Однако теперь он культивировал его в себе, и так успешно, что он оказался в состоянии самостоятельно причинить ему несколько неприятностей, в свою очередь укрепивших его заблуждение. Последнее убежище – «вся его беда в независимом нраве» – было настолько уютно, что нежелание покидать его было, пожалуй, самым сильным препятствием, мешавшим поступить куда-нибудь на заочное отделение, писать глупые контрольные и сдавать глупые экзамены, чтобы доказать, что он не глупее самого глупого из дипломированных глупцов. Тем более, однажды покинув это убежище, вернуться в него было бы трудно. Многие из новых слабостей он в конце концов замечал в себе, но кое-чего так и не видел, не хотел видеть. Кое-чего, что было заметно брату, который хорошо его знал: когда-то они были очень дружны.
(Брат нашел бы в его письме упоминания о таких вещах, заметить которые прежде было не то что ниже его достоинства, но они и в самом деле совершенно его не заинтересовали бы, – например, насмешка над внушительностью банщиков, создаваемой отдельным столиком, была явно нацелена на Юркиного директора. Брату показалось бы неуместным уподобление детей открытой ране. Свое отцовство он ощущал не так и считал, что обостренное ощущение опасности, близости несчастья в повседневной жизни возникает не от лучшего понимания опасности, а просто от нервной усталости. Конечно, он не согласился бы с тем, что нам так уж мало пользы от ума и мускулов. И уж конечно, отметил бы типичную для неудачников наклонность к бесплодным, а главное, не слишком интересным философствованиям.
В последнее время, еще не желая формулировать это окончательно, брат стал склоняться к мысли, что Юрию просто не хватает ума, настоящего ума, способного правильно оценивать обстоятельства и принимать правильные решения. Ума, который дается не для того, чтобы быть наблюдательным, тонким и остроумным собеседником, а в первую очередь для того, чтобы обеспечить хорошую жизнь тебе самому и твоим близким.
Это прямо несчастье какое-то: чуть человек займется «изящным», как тут же начинает считать обычную жизнь буквально оскорблением. Вот раньше никому же и в голову не приходило из своей любви к книжкам или интересным разговорам сделать главное дело жизни.
Брат чувствовал и себя повинным в том, что не пытался своевременно разъяснить Юрке всю глупость, то есть вредоносность его «эстетизма». Ведь сейчас Юрий и сам очень изменился. Но, может быть, изменить его было под силу лишь самой жизни?… И, по правде говоря, он сам в чем-то робел перед Юркой, боялся выглядеть дюжинной натурой. Брат заметит даже то, чего нет, и у него сделается тяжело на душе, но он, как обычно, не будет знать, что ему предпринять.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу