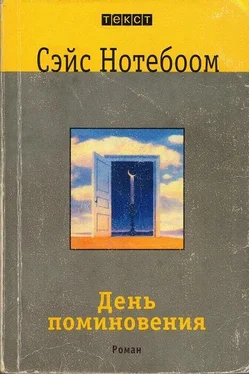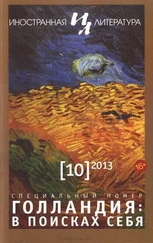«Это могло плохо кончиться», — объяснили ему, когда он вернулся, но он не поверил. Страх, который он испытывал до встречи с местными жителями, тотчас исчез, вместо него пришла неловкость, он почувствовал себя жалким, оттого что не принадлежал к этому миру, неполноценным, потому что и недели не смог бы в нем выжить, и не только потому, что не нашел бы в нем воды и пищи, но, главное, потому, что здесь не было духов, которым захотелось бы его защищать, потому что он не смог бы разговаривать с этой землей в песне и в результате заблудился бы, глухой и немой, навеки.
А сейчас (сейчас!) он стоял, как чудак, у Бранденбургских ворот. Он подошел к скульптуре Афины Паллады в нише и прикоснулся рукой к пальцам ее большой босой ноги. Единственное, подумал он, что абориген узнал бы в ней, не считая ее великанского тела и каменного одеяния, скрывавшего ее мощную грудь и круглые колени, — это сова у нее на шлеме и, возможно, копье. Сколько слоев прошлого можно примирить друг с другом внутри себя? Было что-то нехорошее в том, что он так быстро перешел от духов к богине, от черных голых людей с белыми рисунками на теле к тепло одетым тевтонам, от знойной пустыни к ледяной равнине. Он посмотрел на скульптуру — богиня, которую никто уже не почитает. Весь мир состоит из знаков чего-то, все к чему-то отсылает, сова, шлем и копье, ветви, завязки, следы в его душе, учитель гимназии, греческий язык, Гомер, не только мертвые не хотят оставлять его в покое, но и то бесконечно долгое время, которое он, казалось, сам прожил, и соответствующее этому времени необозримое пространство, по которому он полз микроскопическим муравьем от австралийской ледяной пустыни к греческой богине его школьных лет, всего несколько веков назад нашедшей себе пристанище в воротах с дорическими колоннами, где в победоносном шествии проходили Фридрих-Вильгельм, и Бисмарк, и Гитлер и где она сидит теперь на своей жирной пятой точке и что-то провозглашает, что нашептал ей победоносный XVIII век и чего теперь уже никто не хочет слышать.
Словно прилив и отлив маршировали войска через эту полоскательницу истории. Будь он вдвое старше, чем сейчас, это было бы, наверное, невыносимо. В этой безнадежно запутанной компьютерной сети с мириадами ячеек не осталось бы уже вообще ничего, что не вызывало бы ассоциаций с прошлым. Или это он один страдал от стольких воспоминаний? Привидения! Сколько раз он разглядывал эти триумфальные ворота на пленке, пока не увидел их в действительности? Войска, построенные в каре, движущиеся по улицам квадраты марширующих людей, все лица смотрят в одну сторону, грохот сапог, абсолютно равномерное, словно механическое, движение, теперь навеки остановленное, потому что механизмы тоже умирают, открытый «мерседес», вытянутая рука, перевернутый рунический знак. Их предшественникам, воевавшим одной войной раньше, из-за примитивной кинотехники приходилось двигаться нервными рывками, что еще более лишало их всякой человечности, это были разнервничавшиеся колесики единого механизма, семенившие в страстном тремоло, вприскочку, прямиком к себе в траншеи, словно им не терпелось поскорее умереть. И всё проходили тут и думали о чем-то, чего мы никогда не узнаем.
Он присутствовал здесь в тот день, когда ворота снова открылись и все были в эйфории; наверное, на снятых тогда кадрах кинохроники можно увидеть и его, Артура Даане, переодетого в человека из толпы, человека, который чувствует то же, что и окружающая его масса людей, который что-то думает и что-то замечает, который впитал в себя эту эйфорию и слился с людским потоком, несущим его то в одну сторону, то в другую. Он снова оказался на высоких подмостках и глядел в ранее запретный для него мир, он видел, как молодежь танцует на еще не разрушенной стене, был вечер, первый вечер, танцоров поливали водой из поливальных машин, но они не обращали внимания, белые водяные брызги освещались прожекторами, он смотрел на извивающиеся фигуры танцующих, на эту радость, которую ничто не могло испортить, и, наверное, впервые в жизни почувствовал, что принадлежит к народу, не к немецкому народу, а вообще — к народу. Танцевали не только, на стене, но и у подножия эшафота, прямо за Рейхстагом, светловолосая женщина схватила его за руку и потащила танцевать вместе со всеми. Потом он пошел с ней в кафе, а потом к ней домой, она жила в районе Крейцберг, оттуда он вернулся к себе по длинным-длинным улицам и никогда ее больше не видел. Он вспоминал это как мгновение чистого счастья, потому что этого мгновения не затуманивали никакие другие мысли. Ее сияющий взгляд, ее праздничное настроение стерли из его памяти все остальные воспоминания, в памяти не осталось ни квартиры, ни интерьера, ни имени — только это сияние и сказанные шепотом слова прощанья, маленькое происшествие, которое было частью всеобщего ликования, нечто, что по своей природе естественно, если ты — народ, он как бы подчинился закону природы, точно так же, как пятьюдесятью годами раньше в этом же городе естественным было мародерствовать, поджигать и насиловать.
Читать дальше