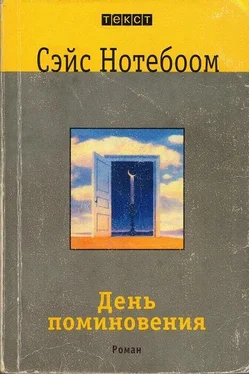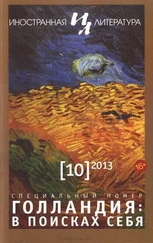— Но почему же ты сам здесь до сих пор живешь?
— Выходит, ты ничего не понял. Потому, что мне нравится здесь жить. Именно здесь-то все и происходит, это я точно говорю.
И его палец описал ту же траекторию, что и камера Артура, указав в сторону зданий, промежутков в застройке, фаллоса телевышки на Александерплатц, с этой причудливой серебряной опухолью посередине. Вечером того же дня, в присутствии Арно, Артур попытался заставить Виктора повторить его тираду, потому что ему было интересно, как отреагирует Арно, но в Викторе, на людях разговаривавшем всегда только короткими фразами, уже угас пыл утренних рассуждений, так что слово «взвесь» так больше и не прозвучало.
В этот момент двое прохожих, юноша и девушка, спросили у него дорогу. В руках у них была подробная карта города, сложенная, чтобы ее удобнее было разворачивать, гармошкой, отчего кажется, что мир распался на части еще до того, как ты нашел в нем свой путь. Вопрос был задан на плохом немецком, в котором явственно слышался испанский, но молодые люди ничуть не удивились, когда он ответил им по — испански. Носителям больших языков, или как их еще можно назвать, будь то немецкий, английский или испанский, кажется естественным, когда их обделенные в лингвистическом плане собеседники, имевшие несчастье родиться в странах с малыми языками, делают для себя выводы и заботятся о том, чтобы, несмотря на врожденную ущербность, все же научиться объясняться с людьми из внешнего мира. Замерзшими руками они пытались все втроем развернуть карту и восстановить единство Берлина, а потом Артур показывал им святые места и по карте, и в реальности, словно работал смотрителем в этом историческом музее и ежедневно стоял тут, объясняя дорогу посетителям. Они бурно поблагодарили его («вы, немцы, всегда так любезны»), а после их ухода он ощутил неожиданную ностальгию по Испании, по другим звукам, другому свету, свету, который не отражается, как здесь, от снега, так что все становится стеклянным и, кажется, вот-вот разобьется.
В Испании свет тоже иногда бьет в глаза, поэтому приходится изобретать всевозможные трюки, чтобы сделать хороший кадр, но там возникает чувство, что этот свет существовал всегда, что это неотъемлемая часть пейзажа, а не исступленно-восторженное исключение, как сегодня в Берлине, из-за чего все вокруг кажется нереальным.
Он поворачивался вокруг своей оси, как будто все еще продолжал снимать. Устрашающие новостройки на Отто-Гротеволь-штрассе («только партийным шишкам разрешалось жить так близко от стены») словно парили в воздухе. Он задумался о том, сколько же на белом свете городов, которые он так хорошо знает, что мог ходить по ним с закрытыми глазами. Здесь расстояние между зданиями он ощущал физически, он был органически связан с улицами и площадями, являлся частью огромного тела. Но почему именно здесь? Этот город изведал победы и унижения, он то бросал вызов, то нес наказание, был имперским и народным, этот город декретов и восстаний, город израненный, как покалеченный в бою пилот, живой организм, приговоренный к тому, чтобы жить бок о бок с собственным прошлым, само Время безнадежно запуталось в силках этих зданий, все было здесь не тем, чем казалось, узнавание и отрицание переходили друг в друга, этот город не давал человеку ни минуты покоя. Каких бы новостроек здесь ни возводили, это ощущение будет только усиливаться, а отреставрированные здания, как, например, на площади Жандарменмаркт, должны простоять еще минимум полвека, чтобы хоть немножко постареть, только тогда бедняга Шиллер в своем лавровом венке будет выглядеть на их фоне менее нелепо. Нет, здесь невозможно жить безнаказанно. Провинившийся город, город-пленник, каких только определений не напридумывали, разрушение, разделение надвое, воздушный мост, знакомые всем слова, и совершенно не нужно испытывать при этих словах какие-то особые чувства, тем более иностранцу. Но если ты уже попал в паутину, то вырваться из нее очень и очень трудно.
Много лет назад он снимал военный музей в Канберре. Больше всего ему запомнились устрашающие пропорции бомбардировщика «ланкастер». Махина занимала целый зал и очень напоминала доисторическое животное. На носу около кабины пилота были нанесены полосы, по одной за каждое выполненное боевое задание, если самолет благополучно возвращался в Германию. В музее показывали документальный фильм, он вспомнил сейчас тот непонятный, медленный знак, который вычерчивала эскадра бомбардировщиков на вспыхивающем, пронизанном огненными выстрелами небе, и непрекращающийся, зловещий гул моторов.
Читать дальше