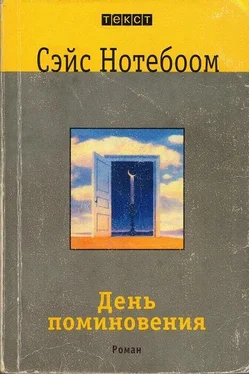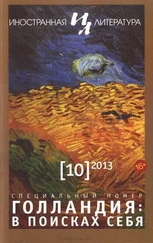Сама она в Бога не верила, но как мы назовем все то, чего не понимаем — загадкой, или случаем, или, ладно уж, если вам так нравится, Богом, — это роли не играет. А если уж верить в Бога, то лучше в такого — слабого, человечного, который среди всех горестей мира ищет собственного спасения, или такого, которому еще предстоит вырасти, если, конечно, происходящие в универсуме процессы можно назвать ростом. Дайсону кто-то явно рассказал, что его идеи близки к средневековому еретическому учению Социния. [16] Социний Фауст (1539–1604) — итальянской теолог.
Это, пожалуй, было самым симпатичным. Ее всегда занимали всевозможные умозрения, и мысль о том, что человек, живший в той же самой Италии, что и Фома Аквинский, и Галилей, выдумал Бога, который не был всеведущим и всемогущим, позабавила ее. Но то, что пристегивал к этой идее Дайсон, было уже чистейшим умозрением, при том, что у него, в отличие от Социния, не было такого смягчающего обстоятельства, как принадлежность к ХVI веку. Ну и хитросплетения мысли, да еще с утра пораньше! Не так уж просто будет написать статью о Дайсоне. «Бог учится и растет по мере развития Вселенной», ладно, но не проводить различия между духом и Богом, определяя Бога как то, чем становится дух после выхода за пределы нашего понимания? Здесь она становилась на дыбы, ведь это означает, что то, чего мы не понимаем, само собой становится Богом, или, иначе говоря, если она правильно поняла автора, что раз мы не будем расти вместе с ним, то, увы, безнадежно отстанем. Ладно, отстанем так отстанем. Но вообще, почему он считает, что вера уж так нужна? Пока мы живы, ответа на этот вопрос нам не найти, а когда умрем, то уже тоже не найдем. С другой стороны, мысль, что человечество — это хорошее начало, но еще далеко не последнее слово, таила в себе чарующее ощущение, что наш мир — явление временное: если это так, то впереди что-то еще будет, что-то, к чему даже она не могла остаться равнодушной, что — то, что скорее перекликалось с ее фотоколлекцией, чем с научной работой, и тут она подумала об Артуре Даане и о вчерашней водке. Внутри этой голландской головы шла бурная жизнь, о которой он никогда ни слова не говорил, но достаточно было видеть, как он часами молча рассматривал фотографии в ее коллекции. Каким-то образом это было связано с тем, что он пережил в прошлом, и еще это было связано с его работой над собственным фильмом. Арно говорил о его работе с увлечением, но Зенобии Артур никогда ничего не показывал. «Потом, потом, пока у меня еще только кусочки, я еще не знаю, в какую сторону меня понесет». До сих пор она видела только отснятый ими с Арно совместный фильм, просто очень хороший документальный фильм, но это было явно не то, что волновало Артура. В нем жила, как считала Зенобия, вторая душа, и это, если вдуматься, точно так же не поддавалось доказательству, как идеи Дайсона, в котором, возможно, тоже жила душа. Выходит, о таких вещах невозможно размышлять, не прибегая ко всем этим смехотворным категориям. Дух, Бог, душа. Лучше уж включить обогреватель. Красиво он пишет, этот Дайсон. «Материя — это то, как ведут себя частицы, когда множество их склеивается воедино». В этом есть своя прелесть, но бабочки, летящие к Престолу, пусть даже и у самого Данте, — от них ей мало проку.
В те минуты, когда Зенобия Штейн и Арно Тик неохотно вылезали из своих теплых постелей, Виктор Лейвен был уже давно на ногах. Его будильник прозвонил более часа назад, громко и безжалостно, и Виктор не мог ему не повиноваться. Гимнастика, бритье, ледяной душ, кофе, без завтрака, без музыки, без голосов, одеваемся так, словно идем в гости, безукоризненная прическа, немедленно в мастерскую, садимся на табурет перед тем камнем, который в работе, смотрим на него, смотрим не меньше часа, прежде чем сделать первое движение. О чем Виктор при этом думал, он и сам не знал, и это было не случайным состоянием, а результатом тренировки.
— Я хочу ни о чем не думать, — объяснил он как — то раз Артуру, — и это безумно трудно, но можно научиться. Ты скажешь, так не бывает, ведь все говорят, что когда сидишь и смотришь, то о чем-то неизбежно думаешь, но это неправда. Или теперь это уже неправда. Говорить о том, что делаешь, — пустая болтовня, но, так и быть, только ради тебя: я ни о чем не думаю, потому что сам становлюсь этим камнем. Теперь понятно? Все, разговор окончен.
* * *
Иногда такое бывает, что из-за освещения все кажется неподвижным, а воздух становится хрупким, как хрусталь. Потсдамерплатц выглядела сейчас широкой равниной, застывший снег на землеройных машинах превращал ее в кубистскую картину. Артур снимал нужные ему кадры, борясь с отраженным светом. От того, что происходило здесь вчера вечером, не осталось и следа. Девушка-полицейский, «скорая помощь», ничего этого никогда и не было, сохранилось только несколько темных, дрожащих кадров на пленке, которые он успел сделать. Так, теперь надо пройти через ворота. Кто-то закрыл их. Он попытался дернуть за створку и поскользнулся. Теперь настал его черед сильно стукнуться головой о железо. Чтобы защитить от удара камеру, он упал спиной на мерзлую землю, почувствовал, как что-то выскользнуло у него из кармана, попытался подняться, встал на колени и увидел фотографию Томаса, вывалившуюся у него из бумажника и теперь улыбающуюся ему в окружении кредитных карточек.
Читать дальше