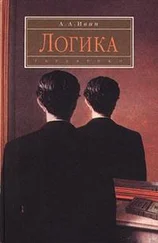Собрал свои куски.
Муки с лица сметать не стал,
Чтоб не забыть муки.
И отправляясь на вокзал,
Себе задумчиво сказал:
«Она измучила меня,
Почти лишила сил.
Был каждый день не мил…
Но мало кто бы смог понять,
Как я её… убил».
Вот осень и ливень! Вот осень и ливень!
Вот город промок и закутался в плед!
А мы ещё живы! А мы ещё живы!
Сидим у канала и времени нет!
Мы спорим, зонтами друг-дружку толкаем,
и снова, и снова в канал головой
мы падаем вместе. Погода такая,
что я точно знаю: сегодня — живой!
Сегодня живой! Ветер сносит границы.
Сегодня живой! Крыша явно течет.
Мне снятся потоки, и осень мне снится,
глаза открываю — и вот они, вот!
(А флигель соседней судьбы разорённой
скрывает глаза, пальцы на косяке;
там тесное время в проёме оконном,
и выбита твердь из-под ног, словно скейт;
там сгублено детство и юность убита,
расцвет, увядание — всё там комком;
там загнанный зверь, напряжённо хрипит он.
Я не о тебе говорю.
— А о ком?)
Город весь перевёрнут!
Улица вверх тормашками!
И по облачной чёрной
споро плывём вразмашку мы!
К рюмочной на «Грибанале»
стекаемся ртутной массою!
Улицами сигналят
автомобили безглазые!
В шахматы время раскатано!
Удачная вышла партия!
Снова ты спрятана.
Снова один на карте я.
Смотрит камера слежения
между гранитных курганищ, как
перекрывая движение,
сонно бреду на Аничков.
В брюхе фонарного ада я
выпрыгиваю из свитера,
прыгаю вниз и падаю
в облачный омут Питера.
Улица выше всех.
Прямо с моста и вверх.
В городе солнца, как только погаснет закат,
общее счастье царит, не взирая на вьюгу.
В городе солнца, уютном, как песня сверчка,
каждую зиму красивые любят друг друга.
Если же вдруг им тесны оболочки квартир,
сразу — весна, что приходит всегда очень скоро.
Сладостным, пьяным теплом наполняется мир,
и одаряет потоками щедрыми город.
Чтобы — в движение, чтобы — достроить уют.
В мощных машинах, добравшись до самого края,
люди работают, город себе создают,
каждое лето его горизонт расширяя.
В небо взлетают высотки — вот это размах! —
город прекрасный идёт по безликой планете.
В этих точёных, красивых, просторных домах
каждую осень рождаются страшные дети.
Ах, какой дождище.
Даже этот нищий
духом городишко
жадным стал ведром.
Вспышка! Снова вспышка!
Гром! И снова гром!
Ах, гроза какая.
Стены протекают.
Протекает крыша,
в голове погром.
Полной грудью дышит
не уснувший дом.
Выгибая выи,
только люди злые
недоумевают —
слишком любят чад.
А дома на сваях
радостно урчат.
Призраком пернатым
ты опять одна там?
Ты опять не веришь
никому, нигде.
Но, по крайней мере,
ты добра к воде.
Вспышка! Снова, снова!
Никакого слова
ты уже не сможешь
наделить добром.
Ток течёт по коже.
Гром. И снова гром!
…такие-то дни ни за что не прожить живым.
Весна, лето, осень, зима — никакого проку.
Как будто виски отрываются от головы,
и голому мозгу холодно и одиноко.
Огромные птицы — стеклянные головы глаз,
огромные крылья и клювы — ковши, не иначе, —
вслепую следят за нами, как будто нас
нельзя отпускать никуда из картонных пачек.
…такие-то дни изгибался в больной изгиб,
метался в бреду на горячей пустой постели.
Летели по ветру горящие листья-виски,
и тайные страхи, пылая, на них летели.
Изгиб доходил до излома, болел излом,
и, будто бы жаль становилось на миг меня ей —
слепая тоска укрывала меня крылом,
и нежно баюкала, к вечному сну склоняя.
Я сегодня сумел измерить
бесконечность, и вот вердикт:
это просто такие двери,
из которых я уходил;
уходил, и кому-то больно
было на пожизненный срок.
Бесконечность — прямоугольна.
Закрывается на замок.
Сканирую город всевидящим оком
(сейчас ещё гордости полный музон бы):
шагают по городу бодрые зомби;
повсюду петарды, и ленты из окон.
И смотрит принцесса из башни высокой.
Мой сканер ломает великая радость,
Читать дальше