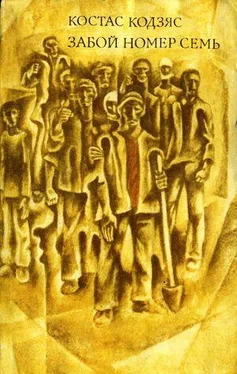– Ну, так мне отвалят хоть два миллиона? – спросил он, уставившись на свата своими кошачьими глазами.
Георгиадис внимательно слушал Фармакиса, стараясь запомнить обороты его речи, чтобы потом повторить жене. С тем же напускным самодовольством он ответил высокопарно, что «политика согнутой поясницы» вызвана необходимостью бороться с коммунистической опасностью. В этом вопросе между сватами царило полное единодушие.
Когда Фармакис вернулся из Салоник, известие о самоубийстве Никоса скорее удивило, чем огорчило его. Он заперся у себя в кабинете и долго припоминал все последние проделки сына, пытаясь дать им какое-нибудь объяснение: Как случилось, что юноша, которому не хватало лишь птичьего молока, который при желании мог бы стать директором компании, взял веревку и повесился? Кто виноват? Вдруг он почувствовал странное смятение и страх.
С огорченным видом Фармакис стал рассказывать знакомым, что его сын ударился в детстве головой и после этого страдал каким-то заболеванием мозга. Эту версию он услышал от жены. Обеспокоенная престижем Семьи, госпожа Эмилия не переставала причитать сквозь слезы: «Ах, боже мой! Что подумают Петимезадесы и Явасоглу? Ах, пташка моя, зачем ты это сделал?» И, вздыхая, припоминала все знакомые семьи своего округа. Но теперь Фармакис, охваченный беспокойством, часто прерывал работу и бродил в одиночестве по аллеям своего сада или по пустынному берегу Саронического залива.
На похоронах Никоса присутствовали только близкие родственники. Покойника не разрешили отпевать в церкви. По дорожке кладбища Алекос шел рядом с Элли. Впереди их, держа под руку мужа, выступала Зинья в траурном платье, сшитом по моде. Госпожа Эмилия запаслась двумя носовыми платочками: один был смочен эфиром, другой – одеколоном. После погребения Фармакис покосился на старшего сына, который дрожащими руками протирал очки. Их взгляды встретились. Судорожно вытянув длинную шею, Георгос опустил голову. Зинья чмокнула свекра в щеку. На обратном пути муж вел ее под руку. Рассеянно поглядывая на впереди идущих людей, Фармакис одиноко замыкал шествие, двигавшееся к воротам кладбища. Прежде чем сесть в машину, он подошел к Алекосу и пригласил его вечером к себе на виллу, чтобы потолковать о стачке.
Когда в полдень Алекос заглянул домой, там царил необычайный переполох. Незадолго до этого его сынишка упал во дворе с пожарной лестницы и ударился грудью о стоявший внизу цветочный горшок. Когда его раздели, у него на тельце обнаружили большой синяк. Взяв мальчика на руки, Анна принялась его убаюкивать.
– К счастью, ничего страшного, – сказала она своей матери.
Но малыш все бледнел и бледнел. Он уже не плакал, не шевелился; повернув головку, только испуганно смотрел на мать. Вскоре вернулся с работы брат Анны, Анестис. Шурин Алекоса, сухопарый, лопоухий человек с морщинистым лицом, на котором навеки застыло недоуменное выражение, даже дома не расставался с кепкой. Он имел привычку сто раз повторять какую-нибудь историю, при этом беспрерывно перебирая четки.
Еще в дверях он начал рассказывать о последнем происшествии на своей работе. Но старуха, оттолкнув его, побежала на кухню кипятить воду для примочек.
Он сам доставил машину в мастерскую, – невыразительным голосом продолжал Анестис. – Хотел, чтобы мы исправили выхлопную трубу: обо что-то задел ее. Мастер Николас подмигивает мне, а сам пристает к нему: «А вы, господин министр, что скажете, будет война?»
Старуха влетела в комнату и опять толкнула сына. Тупо уставившись своими бесцветными глазами на мальчика, он обратился к сестре:
– Он побелел как полотно. Не отнести ли тебе его в больницу, чтобы посмотрел врач?
– Замолчи, не пугай ты ее. Это от ушиба, – вмешалась старуха, моргая воспаленными глазами.
– Думаю, его надо отправить в больницу, – робко повторил Анестис. Хотя ему вскоре должно было стукнуть пятьдесят, он все еще побаивался своей матери.
– Сбегай, Анестис, позови тетку Стаматулу, чтобы она заговорила ушиб, – попросила его старуха и снова скрылась в кухне.
Если бы в эту минуту не вернулся домой ее муж, Анна закутала бы Петракиса в одеяло и понесла бы его к врачу. Алекос вошел с равнодушным и рассеянным видом. Он бросил безразличный взгляд на малыша, не заметив, как оживились его глазенки.
– Я тороплюсь. Похороны состоятся в четыре, – сказал он сухо жене и сел за стол, ожидая, когда ему подадут обед.
Его поведение насторожило Анну. Она понимала, что ха последние дни нечто важное произошло в жизни ее мужа, чего он в глубине души ждал и что окончательно разлучит их. Женское чутье подсказывало ей это. Хотя он и не обмолвился с ней ни словом, она читала по его лицу и была уверена, что между ними уже все кончено.
Читать дальше