Сам он располагался в другом конце барака, там было всё необходимое: добротная офицерская койка, стол, табурет, большая плита с дымоходом, а в каптерке — две лохани, сковороды, пара ведер с крышками, топор, ножи, пила и большая доска.
С некоторыми жертвами он жил по нескольку месяцев, относясь к ним вполне дружелюбно, играя в домино, давая сахар с чесноком и иногда насилуя по ночам. Но наступал момент, когда всё внутри него требовало сладости этого говорящего мяса, его колотило от желания, голод утраивался, не давал ему спать, будил по ночам. И он резал жертву без хлопот и шума, подтащив ее в угол: открывал вену на шее и спускал кровь в очко, а потом рубил на доске тело и начинал сортировать куски: это — солить, это — вялить, это — коптить, это — на холодец, это — жарить, а это пойдет сырым.
Когда у него долго не бывало сокамерника, он начинал беситься и буянить, и конвой за деньги выпускал его ночью в поселок, откуда он неслышно возвращался к утру с деньгами, кульками и свертками. Деньги брали, а в кульки не заглядывали. Конвой без опаски отпускал его, зная, что людоед никуда бежать не собирается, потому что ему известно, что на воле придется охотиться за каждым куском с риском для жизни. А кроме человечины — самого сладкого на свете — он ничего уже есть не мог, да и не хотел.
Так сидел он долго, но однажды, уйдя в поселок, не вернулся.
Вскоре пришел к власти Хрущев, и зону закрыли. Через десять лет ее переоборудовали под спорткомплекс. На плацах сделали площадки, в крепких еще бараках — раздевалки и душевые, отремонтировали кухню, восстановили столовую, а в дальнем бараке, где валялись ржавые лохани и ведра, расположился медпункт.
Как-то там появился старик в ушанке и теплом пальто. Он бродил вокруг медпункта, что-то бурча под нос, а когда молоденькая медсестра спросила его через форточку, не плохо ли ему, он ответил, что плохо, и вошел внутрь.
Пока девушка мерила давление и искала таблетки, он оглядывался кругом, вздыхал, смотрел пристально на девушку. Потом спросил глухо:
— А очко осталось? — И поплелся в туалет.
Забыв застегнуть ширинку, он, возбужденный, вернулся назад, девушка заметила блеск его блекло-пустых глаз, но тут, к счастью, в дверь просунулась русая голова баскетбольного тренера, который ухаживал за медсестрой и несколько раз в день обязательно наведывался к ней.
Тут старик стал собираться, сказав на прощание:
— Да, было время… — на что девушка смущенно-понимающе кивнула головой и дала ему пару таблеток на дорогу.
Таблетки он спрятал в ушанку, а тренеру пожал руку, цепко оглядев напоследок его коренастую фигуру.
Эпизод X
Дождь… Всю ночь льет… Никак не устанет, проклятый…
Он крадется к окну. Задирает к небу полуслепое, без очков, лицо. Видит чернильные размывы на белесом фоне. В шелесте дождя различает звуки, пугается. Кто-то с двух сторон сзади сжимает его голову грубыми мозолистыми руками. Дергает за сердце. Бьет по ягодицам. Под кожей что-то отслаивается. В такт дождю пульс то стихает, то начинает гулко выдавливаться из пальцев наружу.
Он подносит руки к лицу — но ничего не течет, всё сухо. Тогда он садится на корточки и подозрительно ощупывает пол под собой… Но и там сухо, ни воды, ни мочи, только поблескивают какие-то капли, которые он, странно, видит очень отчетливо, будто возле глаз. Шарит по пятнам, но они морщатся, щетинятся, ворчат, скворчат, отползают…
Он неслышно ходит по комнате. Предметы отмякают, проявляются в темноте. Стулья он любит. Шкафа опасается. Этажерку уважает. Комода боится. Стол — его единственный друг, ему он доверяет и всегда охотно сидит за ним и смотрит на черную розетку, которая пялится в ответ, строго и задумчиво уставившись своими тупыми мертвыми дырочками прямо в глаза, в упор. Настольная лампа ему нравится, он с удовольствием гладит ее округлые бока, прижимаясь чреслами к горячему округлому железу, а потом спешит унести этот жар в свою любимицу — кровать, наиграться с ним вдоволь под одеялом. Болыпе-то ничего нет. Пустота и тьма. Только кровать его понимает: тут можно забыть о стонах в листве, когда вокруг тихо, ни души, и лишь ветер иногда швыряет с деревьев холодные пригоршни капель, да в прелой листве со стонами ворочается темный ком…
…Он снует по мокрому лесу. В руках у него зажаты отрезанные груди, они белеют, как тряпки. Он ищет, куда бы спрятать их. Не найдя надежного места, запихивает их в карманы и спешит назад, чуя, что им забыто что-то очень нужное, важное, вся злая причина его несчастий.
Читать дальше

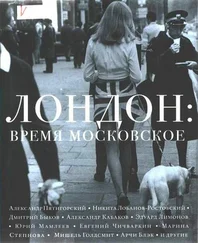







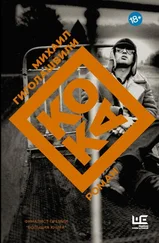
![Диана Ибрагимова - Тайнопись видений [litres]](/books/415671/diana-ibragimova-tajnopis-videnij-litres-thumb.webp)
