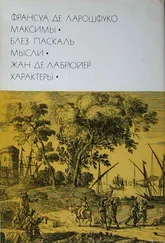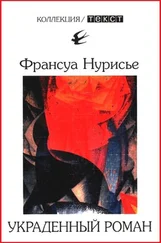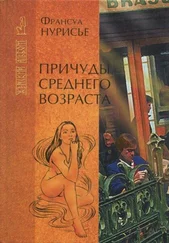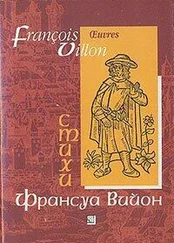Жос в первый раз за долгое время закурил сигарету, потом другую. Ядовитая сладость, убившая Клод. Почему он когда-то послушался врачей санатория? Как же они были хороши, те «Голуаз» с черного рынка, маршальское курево, сигареты, которые называли «пыхтелками», горлодерами, и воспоминания об этом неотделимы от таинства лесов, от мистики человеческих душ, от газогенераторов, от чеканных профилей на обелисках: допотопная Франция его молодости. С дырявым кружевом вместо легкого, если бы он не был примерным больным, то сегодня сохранился бы всего лишь в виде воспоминания у нескольких версальцев предпенсионного возраста. Воспоминания? Даже не воспоминанием; тенью, имя которой «крутится на кончике языка», но которая не смеет появляться в прохладной атмосфере живых. Как же он хотел тогда жить! Его дисциплина, тщательное соблюдение режима, навязчивое стремление сохранить вес, температурный лист… «Семинарист»… От туберкулеза перестали умирать чуть позже, в пятидесятых годах. В общем, люди из обеспеченных семей.
Жос представляет себе жизнь, в которой он сэкономил бы на жизни. Никакого ЖФФ. Никакого Жиля Лeoнелли. Никакой Клод. Сабина? Да, у него хватило бы времени встретить Сабину. Она любила бы его еще сильнее, дохлого, с горячечными пятнами на щеках. Семья Гойе восстала бы против «этого безумства» — «больной, ты отдаешь себе отчет?» Один щелчок пальцами перевернул судьбу, а то и несколько: источник гипотез неиссякаем. Встреча в Сомюре, например. Летнее каникулярное утро на берегу Луары, рано вставшая бесстрашная и свободная девушка, запах провинциальных городов после поливальных машин, когда официанты рисуют восьмерки на грязном цементе, держа палец в горлышке графина, на террасе своего кафе. Эта деталь — почти чересчур хороша: может, она ее придумала? В конце концов она ведь романистка, наша Элизабет. Насмешница Элизабет, которая трясет руку Жоса:
— Вы все еще меня слушаете?
— Я как раз нашел тебе красивый заголовок: «Встреча в Сомюре». Ты помнишь, как мы развлекались, придумывая заголовки?
— Лично меня не приглашали на праздники в «Альков». И потом это заголовок для романа. Даже нет: для какого-нибудь рассказа, вроде тех, что нашептывают в баре «Пон-Рояль» на ухо этим мерзавкам с тощими ногами. Песня называлась бы просто «Сомюр». Но я бы на это не отважилась. Такому, как Реми, конечно. До этого, раньше, я ничего не понимала в его песнях. Я их любила, но ничего не понимала. Я ничего не знала о его внутреннем мире. Я начала его открывать в то воскресенье. Я понятно объясняю? Брель, если не знать Брюссель, пиво, жареную картошку, это было бы потрясающе, но таинственно. Его внешность грустного Фернанделя, короткие пиджаки раннего периода раскрывали лишь половину его тайны. Сомюр! Конный завод Дюпена! Вы можете меня представить, меня, дочь красавицы Жизели, Венеру с улицы Ульм, в конюшне Дюпена? Другая сторона шарика, антиподы. Забавно, певец, никогда бы не подумала, что у него в голове это прошлое с домами и лесами… Разве не так?
— Ничего, продолжай, ты хорошо рассказываешь о нем.
— Вы находите? Это одновременно и расплывчато, и четко. Существуют рыжие собаки, существуют ставни, чтобы не выгорала гобеленовая ткань на креслах, деликатные женщины, которые встречают какую-нибудь дылду, кладя ей руки на плечи и называя ее «моя дорогая», и предлагают ей чай… Чай!
— Ты что, сочиняешь роман или рассказываешь?
Недовольная, Элизабет встряхивается и встает.
Не в следующее воскресенье, а через воскресенье — то есть четыре дня тому назад — Реми отвез ее к себе, в сторону Санлиса, в деревню под названием Шаман, в дом, окруженный, разумеется, деревьями, и с белыми ставнями. Реми открывал одну за другой свои карты: мать, сестра, рыжие собаки, белые ставни. Какая связь существовала между табачной завесой в Шоле, двухцветным «универсалом», несущимся со скоростью сто сорок по дороге, субботами на телевидении, конвертами для пластинок, на которых аркадийский пастух позирует на фоне ночи, и домом в Шамане, этой девушкой двадцати лет с упругой грудью и бешеными глазами, дамой с седеющими волосами, которая говорила: «Идите в тень, дорогая» и, повернувшись к Реми: «Ну, как это турне?» Она говорила об этом, как о службе.
О, ужасное воскресенье! Прекраснейшее воскресенье. Элизабет было стыдно за свое тело, за свои губы, за выражение зверского аппетита, когда она набивала себе рот, если переставала следить за собой, за те слова, которые приходили ей в голову и никогда не были уместными, слова, которые никогда не были изысканными, сочными, гладкими, как шелк, и которые были в ходу в Шамане, и которые Реми сам употреблял с иронией странника. И как это им всем удавалось? Сестру с глазами, как уголь, звали Мари. Элизабет готова была бы сделать что угодно, совершить любую подлость, чтобы завоевать уважение Мари. «Я тут ни при чем!..» О! Еще как при чем! Мари пожирала глазами Элизабет, изучала, оценивала ее с бесстыдством ребенка. Ко всему прочему, идя однажды по коридору вымыть руки и по старой привычке окидывая взглядом корешки на полках, она обнаружила там свой первый роман. Она взяла его посмотреть: немного пожелтевший, потрепанный, он стоял строго на отведенном ему по алфавиту месте между Вайаном и Веральди. Значит, для них она все же не была пустым местом, какой-то потаскушкой, обманом вторгшейся в дом с белыми ставнями. Какой-то сюжет о ней, возможно, в их памяти задержался? Элизабет почувствовала себя слишком взволнованной, когда вновь появилась на террасе, погрузившейся уже в тень. На некоторое время она почувствовала себя естественно.
Читать дальше