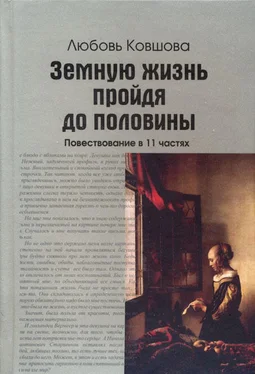— Иди домой, — проговорила она помягче.
Я промолчала. За семь часов нашего общения я уже сказала, по-моему, все слова, которые знала. Сначала я объясняла, потом упрашивала, уговаривала, едва не умоляла и то потому, что не умела, под конец скандалила, безобразно орала, почти не помня себя. Меня выдворяли из ее кабинета, но безуспешно, пока не додумались запереть дверь в отделение.
— Чего ты боишься? — теперь уже уговаривала она. — Он сейчас не такой уж тяжелый. Без тебя справимся.
— Ага, справитесь. Досправлялись. Справляться вы умеете, — меня опять сносило с катушек. — И вообще, какое ваше дело?! Сижу и буду. Сказала: не уйду, — и не уйду. Вам не мешаю. Ну и отстаньте от меня все к чертовой матери!
— Ты — просто дура! — рявкнула она, бросила с крыльца на снег окурок и хлопнула дверью.
Я подобрала остаток «беломорины» и затянулась. Сразу тошно засосало в животе и вспомнилось, что с утра ничего не ела. Но это, как ни странно, обрадовало: ожесточение шло по нарастающей, по принципу — чем хуже, тем лучше.
Окурок догорел до бумажной гильзы и потух. Я выбросила его, обхватила руками колени и уткнулась в них лицом. Так было не то чтобы теплей, а скорее бесповоротней и оттого спокойней.
Дверь опять скрипнула, открылась. Где-то за ней в глубине крикнули:
— Эсфирь Наумовна, третий бокс готов!
Дверь закрылась снова. Никто не вышел.
А на меня вдруг навалилась страшная усталость, давящая и тупая. В ней словно разом сошлись два последних года — с рождением сына, его болезнью, частными квартирами, институтскими хвостами, безденежьем, с недоумением и обидой, что в самой справедливой и гуманной моей стране могут не стремиться помочь другому, а чаще и не хотят, даже если обязаны.
Намыкавшись по детским больницам, насмотревшись там, я теперь редко доверяла медицинской братии, ненавидела встречавшееся казенное равнодушие сестер и нянек, и надеялась на одну себя. Но по какой-то идиотской ихней инструкции меня не положено было класть с сыном, потому что ему исполнился год. Вернее, ему было уже два, и тем более оставаться с ним не разрешалось. Он и лежал один в институтской медсанчасти, где ему день ото дня становилось хуже, пока вчера ночью его, как безнадежного, не отправили сюда. И без меня рядом, я твердо знала, ему было не выжить.
Это знание не было почерпнуто мной из книг и справочников. Оно само пришло ко мне, когда год назад в февральские пыльные бури, несущиеся сквозь Краснодар, в тихой окраинной больничке умирал мой малыш. Умирал трижды, у врачей это называлось по-медицински (оттого еще страшней): «состоянием клинической смерти», и он три раза уходил в то состояние. Врачи делали всё, что могли, а я неизвестно откуда, но уже абсолютно точно знала, что без меня им не справиться. Я словно держала ту последнюю ниточку, за которую его еще можно было вытащить из-за невидимо-зыбкой черты, отделявшей жизнь от смерти. Напряжением всех душевных сил, сама натягиваясь до звона, я держала ее и боялась не удержать. Ничего больше не существовало на свете, кроме запрокинуто-белого детского личика, и ничего не было тяжелей ускользающей этой нитки. Только иногда перед глазами всплывала желтая, в сплошных трещинах по глянцу фотография, хранимая моей мамой с довоенного 38-го года. На ней, утопая в кружеве и лентах, с таким же запрокинутым, но уже ничего не выражающим личиком была снята двухлетняя девочка. Спокойная фотография. Тень страдания лежала лишь в краешке левого недозакрытого глазика и в судорожных пальчиках сложенных на груди ручонок. Фотография моей сестры Али, умершей за семь лет до моего рождения.
И там и тогда до меня впервые в полной мере дошло, почему и тридцать лет спустя моя мама плачет над этой фотографией. Я же была много слабее мамы и просто не смогла бы жить, нося в паспорте такой снимок.
К счастью, в Краснодаре мамина судьба обошла меня стороной. Малыш выжил, хоть и остался с больными легкими. Но сейчас, здесь, в Морозовской больнице Москвы, передо мной опять вставал призрак изломанной желтой фотокарточки. Я чувствовала опасность, как зверь, всей шкурой и опять знала, что без меня ее не одолеть.
Снова позади пронзительно заскрипела дверь. «И чего они ее не смажут?!» — подумалось ни к селу ни к городу.
Прямо в халате и мягких, почти как тапочки, рабочих туфлях эта древняя, словно ее имя, ведьма спустилась с крыльца и заглянула мне в лицо. Не знаю, что она там увидела, но сказала особенно грубо:
— Черт с тобой! Иди в отделение, мне тут покойники на крыльце не нужны.
Читать дальше