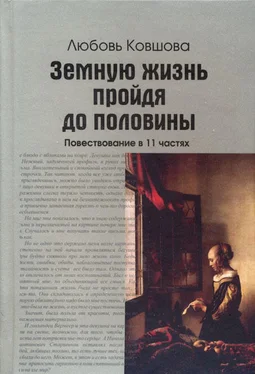С этого собрания словно что-то переломилось во мне.
Лезло в голову циничное высказывание кого-то из физиков: «Наука — это наилучший способ удовлетворения моего любопытства за счет государства».
Прибредали какие-то строчки стихов:
Нас выбирали только по уму,
А стоило вперед поставить душу.
Выплывал из памяти лыжный поход на Карельский перешеек в зимние каникулы второго курса. Не сам поход, а последний его день, когда мы заблудились возле Финского приграничья из-за карты, рассчитанной, вероятно, исключительно на шпионов, и вышли к жилью только по дальнему лаю собак.
Приютил нас на ночь одинокий старик из крайней избы. И вместо благодарности наши образованные мифисты, чтобы развлечься, подпоили старика и принялись выставлять его на смех: «А барыню сбацать можешь, дедушка?» Все делалось ядовито, но исподволь, исподтишка, так что сама жертва не понимала, что над ней смеются.
Я тогда не стерпела, крикнула, срывая голос:
— Прекратите, подонки! — и вылетела за дверь.
Потом стояла на крыльце в одной штормовке, смотрела на косматые от мороза звезды и думала:
«Как так вышло, что настоящая интеллигенция, — а ведь была же она в лице хотя бы наших послевоенных учителей, была! — и вдруг заменилась спесивой образованщиной? И где и когда мы сбились с самого правильного пути: «Каждый труд у нас почетен»?»
В общем, разброд и шатания душевные.
И сейчас они бродили во мне, не давали покоя. И вопросы были все те же:
«Разве стоило ради хорошо кормленых, хорошо ученых и отменно бессовестных деток горбатиться всю жизнь от темна до темна, воевать и снова горбатиться без света и просвета, чтобы они могли удовлетворять свое любопытство, рваться к славе и достатку, а заодно до глубины души презирать тех, кто своим трудом дал им такие возможности?»
Но все же теперь я была постарше, чем тогда, и некоторые ответы начинали проклевываться наружу.
Я уже понимала, что это был отход, пена на поверхности впервые в истории России неголодной жизни.
И не ради них, конечно, израбатывался старик из привыборгской деревни, и не ради них полз восемнадцать суток Маресьев, умирал с голоду и не сдавался Ленинград, рисковал жизнью Гагарин и многие-многие известные и неизвестные люди, составляющие мой великий народ.
А эти, — мне их даже было жалко, — так и проживут мелкими людишками, чужими в своей стране, безосновательно считающие себя личностями, не приносящие никому радости, и потому не любимые никем, а, значит, вечно обиженные на всех и всё. Несчастные сукины дети!
А может, я льстила себе, думая, что повзрослела. Все так же мир делился для меня на черное и белое, и не было в нем ни полутонов, ни оттенков. Все так же влюблялась без ума и памяти и так же горько до отчаянья разочаровывалась в предмете вчерашней любви.
Так было теперь с МИФИ, с таким заманчивым раньше миром физиков и даже с будущей профессией, которая уж точно ни в чем не была виновата.
Но я ничего не могла с собой поделать. Простой, не сильно грамотный, нищеватый люд с Мосгорснабсбыта был мне ближе любой интеллигенции. И я, разрываясь надвое, все-таки на всю жизнь была на его стороне.
Эсфирь Наумовна Перельман
На каменных ступеньках сидеть было невыносимо холодно. Январь… Нет, даже не январь, а февраль, иначе бы так не несло по больничному городку поземкой, не забивало бы снегом за воротник, в рукава и сапоги. А еще промерзшие ступеньки снизу. Б-р-р-р! Но стоять больше не оставалось сил, не держали ноги. Я огиналась по Морозовской больнице (ничего себе названьице, очень кстати!) около детского отделения с обеда, а шел уже восьмой час вечера.
«Замерзну, к черту, насмерть, — подумала с остервенением. — Вот смеху-то. Посреди Москвы… Ну и пусть!» — Было уже наплевать.
Дверь за моей спиной скрипнула. На крыльцо, освещенное только фонарями с расчищенных, но уже переметенных дорожек, теперь хлынул яркий свет. Дверь опять скрипнула, и свет погас. Чиркнула спичка, потек сверху запах табака. Грубый, хриплый от курения голос раздраженно спросил:
— И долго ты собираешься здесь сидеть?
Я не пошевелилась и не ответила. Надоела она мне хуже горькой редьки, эта старая ведьма.
— Я спрашиваю, — прикрикнули сзади. — И когда с тобой разговаривают, повернуться надо.
Поворачиваться мне было абсолютно незачем. Ничего нового я бы все равно не увидела. Она и с виду была настоящей ведьмой. Из русских народных сказок. Один к одному, только без костяной ноги. Хлипкая, иссохшая, с крючковатым носом и седыми из-под врачебного колпака лохмами. За день я выучила ее облик наизусть.
Читать дальше