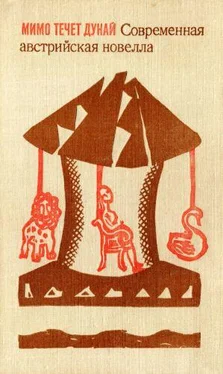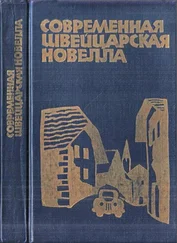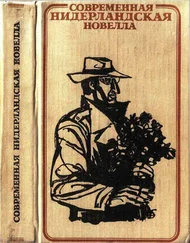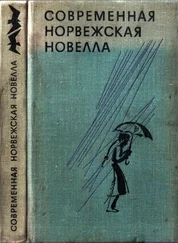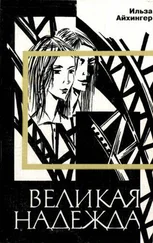Я слышала, как говорит Рихард, но не понимала ни слова. Объятая ужасом, я смотрела на его глаза, влажные и живые, и каждый его волосок был живой, и кожа, и руки, у меня перехватывало дыхание, когда я на них глядела.
Для непосвященного мы были супружеской четой средних лет, которая пытается утешить убитую горем мать.
Вот только Луиза — совсем не убитая горем мать. Смерть Стеллы ей на руку. Мы это знали, и она знала, что мы это знаем, но она охала и плакала, как полагается по роли.
Раз Стеллина доля наследства — аптека — достанется Луизе, она может выйти за своего магистра, который и не подумал бы на ней жениться, не будь этой удачи. Теперь Луиза может купить этого молодого и крепкого мужчину и какое-то время доказывать себе, что ей крупно повезло.
Стелла была всем нам в тягость, была для всех помехой, наконец-то помеху убрали с пути. Разумеется, если бы она благополучно вышла замуж, куда-нибудь уехала или каким-то иным путем исчезла из поля зрения, было бы куда лучше. Но, слава богу, она вообще исчезла и о ней можно забыть.
Я видела по Рихарду, как основательно он успел уже забыть о ней, поскольку забвение у него — функция тела. А тело его о ней забыло; он сидел рядом со мной, крупный, плечистый, охочий до новых женщин и новых приключений, и поглаживал костлявые куриные лапки Луизы своей широкой холеной рукой, а рука у него такая теплая, сухая и приятная на ощупь.
От этой теплоты, от успокоительных звуков его голоса Луиза перестала хныкать.
— Всегда, — причитала она, — всегда я ей говорила, осторожнее переходи через улицу, о чем она только думала, хотела бы я знать?
— Да, — сокрушенно поддакнул Рихард, — мы тоже хотели бы это знать, не правда ли, Анна?
Он взглянул на меня, я кивнула. Ни тени иронии не было в его голосе. Я извинилась и сказала, что мне надо заглянуть на кухню. Но я пошла не на кухню, а в ванную и слегка подрумянилась. Бледность меня портит.
У Стеллы последнее время тоже были бледные щеки, но ей было девятнадцать лет, ее лицо от страдания становилось тоньше, становилось взрослым и привлекательным. А женщина за тридцать должна бы вообще утрачивать способность к страданию, ее внешности оно только вредит.
Когда Стелла появилась у нас, ее кожа была покрыта легким загаром. Она была недурна собой, но начисто лишена шарма и грации. На современный вкус она была слишком здоровая и сильная. Недаром потребовался тяжелый грузовик, чтобы умертвить ее. Стелла поступила очень благородно, как бы ненароком сойдя с тротуара, чтобы впоследствии можно было говорить о не счастном случае. Кстати, вот лишнее доказательство, как мало Луиза знала свою дочь, если она могла поверить в несчастный случай. Рассеянность Стеллы была рассеянностью молодого, сильного и сонливого зверька, который и в полусне отыщет верный путь и пройдет сквозь джунгли большого города. Даже шофер грузовика, молодой, бестолковый парень, и тот не поверил в несчастный случай. Стелла решила умереть, и, так же самозабвенно, не помня себя, как некогда попала в жизнь, она выпала из жизни, а жизнь и не подумала ее удержать малой толикой любви, доброты и терпения.
Стелла вправе рассчитывать на нашу признательность. Как было бы ужасно, если бы она приняла снотворное или прыгнула из окна. Ее благородство, благородство сердца проявилось и в том способе смерти, который она избрала, подарив всем нам возможность поверить в несчастный случай. Впрочем, мне от этого не легче, ибо тот единственный, кто должен был поверить в несчастный случай, не поверил и никогда не поверит. Стелла вечно будет стоять между мною и Вольфгангом. Миновало время детской нежности и доверия. Вольфганг ненавидит отца и презирает меня за трусость. Лишь много позже он поймет меня, в ту пору, когда, подобно мне, будет сновать из комнаты в комнату, наедине с тоской и сознанием безысходности. Но меня уже не будет на свете, как нет на свете моего отца, чье насмешливое снисхождение вызывало у меня в детстве неуверенность. Взгляд отца, когда я играла в куклы, — это взгляд, каким я провожаю Вольфганга, когда он с товарищем уходит играть в теннис, и которым он уже сейчас наблюдает за играми своей маленькой сестренки.
Будь сейчас Вольфганг со мной, он непременно затеял бы спасать пичужку, а мне пришлось бы его отговаривать, потому что, если мать птенца не вернется, ему все равно не помочь, раз он еще не умеет есть самостоятельно. Только мать могла бы спасти птенца, а я начинаю сомневаться, что она когда-нибудь вернется. Он кричит так жалобно, что притягивает меня своим криком к окну. Он стал еще меньше, заметно меньше, хотя и утром был уже до того крохотный, что просто уменьшаться некуда. Теперь я вижу его вполне отчетливо — комочек перьев разевает глаза и клюв, обезумев от страха и голода. Его мать больше не вернется. Я снова закрыла окно. Солнце озаряет птенца. Может, он заснет и даст мне несколько часов передышки, раз я не буду за него беспокоиться. От крика он обессилеет раньше времени. Возможно, ему хочется пить, конечно же, хочется. Ну не смешно ли, что меня выбивает из колеи какой-то птенчик. Рихард высмеял бы меня. Я должна поверить, что мать найдет его и дело с концом. Порой мне кажется, что моя неспособность верить накликает беду. Может, и Рихард не стал бы таким, если бы я слепо ему верила, может, все сложилось бы иначе, если бы мой отец, когда я привела Рихарда в дом, не посмотрел на нас таким странным взглядом. Откуда он мог знать, кто дал ему право знать, что будет дальше, и кто дает мне право преследовать Вольфганга взглядом, как раньше я преследовала Рихарда и Стеллу.
Читать дальше