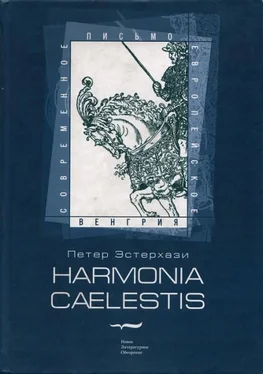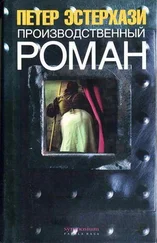Вечером мать спросила, что я сделал с этим беднягой Фреди Бакалейщиком.
— Здесь была его мать. Прекрасная женщина. Я не знаю, что бы мы делали без нее.
Мой братишка тут же вступается за меня, говоря, что я вовсе не собирался убивать Фреди, и даже его не хотел убивать, и, наверно, вообще никого. Наш отец обрывает его и, усадив на колено, «оп-ля, поскакали», начинает качать.
— Пойди к Фреди и попроси прощения, — говорит мать.
— Ты хочешь просить прощения у Фреди? — вмешивается отец.
— Не хочу.
Мои родители смотрят друг на друга.
— Фреди — хороший мальчик. Он только качал на качелях твоего брата. Разве не так?
— Он хотел украсть мою сказку про звездную пыль.
— С чего ты взял, старина? — пристально смотрит на меня Папочка. — Фреди история королевича Чабы ganz egal [145] Совершенно безразлична (нем.).
, у него есть своя сказка. В сто раз больше сказок. Ведь этот мальчик еврей.
— А что значит еврей?
— Еврей… — отец усмехается, — …евреи — это такой народ, у которого собственные истории. Не нужен им королевич Чаба. У них есть Моисей. Есть Самсон.
— Самсон — это кто?
— Я потом тебе расскажу, если ты сейчас сходишь к Фреди.
Но про Самсона он так никогда и не рассказал.
140
Лет через десять мой брат прогуливался с моей матерью по бульвару Св. Иштвана. Они шли мимо кафе «Луксор». Брат вырос в тот год на пятнадцать сантиметров. Он вел Мамочку под руку. Они притворялись, будто мать была зрелой женщиной, а он молодым человеком. У Мамочки тогда еще не был раздут живот, она еще не носила парик и частенько даже принаряжалась — особенно мы тащились от ее канареечно-желтого вызывающего костюма, который она носила с тюрбаном. Тюрбан чем-то напоминал ее курение: он показывал нам не ту женщину, которую мы привыкли видеть каждый день.
Она даже умела подмигивать. Изящно, едва заметно, одним левым глазом. В эту игру мы обычно играли с ней в электричке. Она делала вид, будто незнакома со мной, и подмигивала. Меня это забавляло. Я вовсе не ревновал ее к младшему брату. Он любил нашу мать больше, чем я, потому что любил ее в ущерб отцу, отдавая матери и его долю, что для меня было нехарактерно. Однако я всегда чувствовал, что занимаю особое положение, потому что пусть мать и не любила меня больше остальных, но все же была, так сказать, благодарна мне — как первенцу и всегда помнила, что, когда я родился, она была счастлива. Возможно, даже не из-за этого, но все равно была счастлива. Вот почему я не ревновал ни брата с его исключительной и, стало быть, большей любовью, ни сестренку, которую нужно было любить больше всех (воспаление среднего уха и проч.).
У «Луксора» к ним подошел элегантно одетый мужчина в темно-сером, с просинью пальто и такого же цвета шляпе от Борзалино; он выглядел вполне светски, пока не заговорил, потому что стоило ему открыть рот, как его неприятно подобострастный, заискивающий и неискренний голос скрыл все остальное. Лживого человека не может исправить никакая просинь.
— Позвольте вас поприветствовать, ваша милость, целую ручки, а также юного графа, ведь это ваш сын, если я не ошибся, мое почтение.
Мой брат замер на месте. Он еще никогда не слышал, чтобы люди говорили таким тоном, разве только в кино. Но и мать он такой еще никогда не видел.
— Келемен! — завизжала она голосом маркитантки. — Где серебро?! Наша мебель?! Посуда?! — Тот втянул голову в плечи. — Дюма-сын?! — продолжала она визжать. Мать была вне себя, брат держал ее за руку, чувствуя, что она того и гляди набросится на этого Келемена. — А полное собрание сочинений Йокаи? А часы? Старинные часы Векерди? — бушевала она. — Jerger Schachuhr Robust Genau Geräuscharm Seit Jahrzehnten!!! [146] Шахматные часы «Йергер», десятилетиями безотказные, точные, бесшумные!!! (нем.)
— Не надо, Мамочка! Успокойся!
— А граммофон? «Хиз Мастерз Войс»? — Это она сказала в сторону брата, как бы в скобках. — А где кровать тети Эммы? В которой она умерла?! — Она задыхалась. — Верните нам серебро, немедленно! Вы мерзавец!
При слове «мерзавец» по лицу мужчины пробежала страдальческая, сентиментальная и в то же время надменная улыбка, он стал с поклонами пятиться, словно следуя строгому испанскому этикету.
— Я делаю все, что могу, ваша милость, я стараюсь, и, смею заверить, у нас есть все причины надеяться, мне пора, разрешите откланяться. — Остановившись, он поклонился матери, потом брату, стремительно повернулся и, чуть сгорбившись, подрапал в сторону Западного вокзала.
Читать дальше