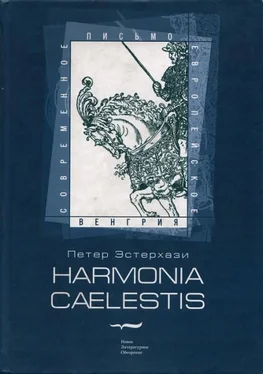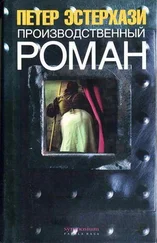— А зачем вы все это рассказываете?
Разразившись неистовой бранью, он швырнул трубку.
19
Мысли бабушки, таким образом, обратились сперва ко Всевышнему, потому что она всегда сначала обращалась к нему, а потом — к задаче. Которая в данном случае пиналась в ее животе.
— Вы с ума сошли?! Менюш?! — Когда она гневалась, невозможно было понять, спрашивает она или утверждает. — Вам померещилось?!
Верный слуга, не желая еще раз осквернять уста жутким словом, показывал себе за спину, сопровождая свой жест гримасами.
— Ну точно, с ума сошли, — кивнула бабушка. — Жаль.
Менюш Тот отчаянно, чуть ли не раздраженно потряс головой, как будто играл с госпожой в «горячо-холодно» и та никак не могла угадать верное направление. Сообщение Менюша было столь фантастичным, что бабушка не могла ему не поверить. Даже если он и сошел с ума, то не настолько же. Выдумать такое немыслимо, даже если начисто забыть о руке рацио. Рука рацио, я часто потом это слышал.
Она подошла к окну, отсюда, из задних покоев, был виден парк, который, по всей ширине подступив к тыльной части дворца (или фронтальной, тут боролись друг с другом различные школы), какое-то время как бы топтался перед громадным, в классическом стиле, несимпатичным зданием и затем не спеша — по-английски — растворялся в предгорьях Вертеша. Хозяйкой во дворце была не бабушка, а «матушка-княгиня», бабушкина свекровь, которую — по временам депортации — знал и я. В ссылке она и скончалась, несколько недель пролежав перед смертью в параличе. Было только одно движение, которое старуха сохранила до самого конца: желая зевнуть, она прикрывала ладонью рот. Что значит дрессура!
Рождение моего отца — а родиться ему все равно придется, как бы он, криптокоммунист своего времени, ни барахтался, ни сопротивлялся, находясь там внутри, — принесло бабушке независимость: они отселились в Майк, в охотничий замок, приспособленный под усадьбу.
Характер у бабушки был неласковый, и оттого ее твердость казалась суровостью, ее просьбы воспринимались как распоряжения, правда, распоряжения никогда не звучали командами. Зато последовательность бабушки делала ее предсказуемой и надежной, и это, в сочетании с постоянной готовностью оказать помощь, иногда создавало видимость сердечности.
Что касается видимости, то, во всяком случае внешне, в ней не было ничего аристократического, хотя и мать и отец ее были из рода Каройи («твоя бабушка — дважды Каройи!»), и вообще, если вести речь о ее изъянах, бабушке чуждо было стремление к наслаждениям (так что следовать викторианскому наставлению относительно половой жизни — close your eyes and think of England [86] Зажмурься и думай об Англии (англ.).
— большого труда ей не составляло), мир красоты, запахов, чувств оставлял ее равнодушной, у бабушки вообще тела не было — только когда рожала.
— Вы рожали когда-нибудь, Менюш? — Менюш залился краской. Бабушку он любил, хотя и не знал еще, что второго ребенка, младшего брата моего отца, назовут тем же именем, что и его. Впрочем, слово «любовь» не годится, любить он не смел, скажем так: чувственно уважал. — А я вот рожаю. Сейчас.
— Нет-нет, барыня, вы еще не рожаете.
— А что же я делаю?!
— Со мной изволите разговаривать. — Он снова покраснел. — Извините. Пожалуйста, не извольте пока рожать, потому как не время. — И опять стал показывать за спину, на этот раз головой — будто лошадь, которую дергают за узду.
— Да что вам дались эти коммунисты! — раздраженно махнула рукой бабушка.
— Мне, барыня?! — изумился слуга. И хотел было добавить, что сейчас речь совсем не о нем, но смолчал, потому как о нем речи быть вообще не могло. Моя бабушка в глубине души, как мне кажется, была коммунисткой, во всяком случае во всех сферах жизни стремилась к равенству. Впрочем, это звучит двусмысленно — революционеркой моя бабушка не была, а была она барыней, ее сиятельством, но людей мерила одной меркой. Хотя, наверно, она все же не думала, что бытие определяет сознание, — да и правда, если бы бытие определяло сознание, то она и не могла бы так думать.
— Менюш, — положила конец непривычной для нее болтовне моя бабушка, — велите скорей закладывать, я должна успеть на скорый до Таты, и перестаньте мотать головой. А ты, сын, потерпи, — строго бросила она младенцу-отцу, точнее, она сказала ему то же, что говорил счастливому мгновению Фауст: остановись, крошка, тебе лучше побыть пока там, — и, неся перед собою огромный живот, выкатилась из гостиной, которая в семье так и называлась — Руазеновская.
Читать дальше