Стоило хозяину уйти, все начинали дышать полной грудью, при нем же молчали, одно его присутствие заставляло языки проглотить. Порой он неожиданно появлялся то здесь, то там и молча смотрел, порой подавал команды и свистел или принимал участие в работе. Он кричал и сыпал прибаутками, в которых поминалось все на свете от пениса до Папы Римского, стараясь завоевать расположение работников и не торчать здесь все время. Шагу нельзя было ступить без укоров и попреков, обходя их, точно завалы. Соображалось легко и ясно, но шли часы и усталость брала свое, домучивая до сна. С верхних лугов вниз, в сонное забытье, а потом снова наверх — снимать изгороди. Эта работа напоминала о весне. Хотелось обратить время вспять, но еще больше — углубиться в осень, подальше от того дня, когда появился на свет, поближе к смертному часу. Хотелось шляться, отводить душу бранью, рвать, крушить все вокруг.
Незадолго до заката Лоферер послал Холля за своим пиджаком. Холль вернулся с пустыми руками. На поиски отправились вместе и бродили до темноты, но все же нашли. Пиджак был изорван какой-то дикой тварью, живого места не осталось. По первости Лоферер не сказал ни слова, потом стал осыпать проклятиями дерево, затем — весь луг. После — хозяина. Наконец он что-то подсчитал и пришел к выводу, что три месяца проработал даром.
Все переделывалось на зимний лад. Запрягли три телеги с обитыми железом колесами и поехали вниз, туда, где чернел мрак. Улица тянулась серой полосой. Мелькали огоньки: недвижные и плывущие, пестрые и назойливо яркие. Железнодорожный поселок. Трактир, где целый год из вечера в вечер в сотни утроб лилось хмельное зелье, теперь пустовал. Школа-однолетка. Лавка, служившая сельским универмагом. Профсоюзный кинотеатрик. А там дальше — крестьянская усадьба, зажатая в разломе скал. Еще выше — скирды горного сенокоса. Ручей, пробиравшийся к краю уступа, чтобы разбиться о камни. Изгородь, через которую перемахивали напуганные машинами жеребцы, крутой дугой выгибалась над обрывом. Над дорогой угрожающе нависала каменная глыба величиной с дом. Надгробные распятия, горные хижины. Тремя огнями светились два приюта для альпинистов, построенные здесь из чисто умозрительных соображений. Над ними поднимался вселявший ужас склон, когда-то лавина мигом поглотила здесь четырех или пятерых батраков. Крестьянский двор, большой и сурово набожный, не слишком властный хозяин и заправляющая всеми делами хозяйка. По праздникам всю свою челядь она запихивала в часовню, мальчишек гнала прислуживать в церкви, мужа и бургомистра откомандировывала к Папе в Рим, наведывалась в усадьбу 48 и посверкивала там своими колючими глазками. Ручей растекся и затих. А вот то место, где однажды утром нашли человека, лежавшего вниз лицом, рядом валялась бутылка из-под водки. Было ли это несчастным случаем или преступлением — кто знает. У покойника осталась затюканная жизнью жена и куча детей мал мала меньше. Все они влачили голодное существование вместе с другими обитателями барака. Один из мальчиков сидел в классе на три парты впереди Холля. Бледный и хилый подросток, на переменах он чаще всего скрывался в уборной, так как ему не давали с собой завтраков. Для деревенских коммунистов это было бельмом на глазу, но никто не понимал их.
Еще усадьба — у безымянного ручья за высокогорным лугом, дом с тугоухими детьми. Затерянный крестьянский двор, брошен хозяевами. В получасе ходьбы в гору другой двор, там тоже дети. Вот дом с девизом, двое детей, оба из старших классов. Электростанция, вокруг много домов и бараков. Папаша закуривает сигарету, а дети подбегают с новостью: братец упал в ручей. Дом Найзера. Лесопилка. Огороженный выгон. Бараки. Луга. Выпасы. Огни. Деревня. Гора Зоннберг вся на виду. Дети корпят над домашними заданиями за кухонными и обеденными столами или расплачиваются за упрямство в углах комнат. В какой-нибудь из них стоит гроб. Рубленый дом.
Конрад сидел, не меняя позы. Лоферер промолчал всю дорогу и потом тоже ни слова не сказал. У всех в ушах стоял тележный грохот. Спрыгнули, загнали лошадей в конюшню, затопали по ступеням, торопливо скинули пиджаки. Молитва. Клецки. Молитва. Время посидеть. Время идти спать.
И снова это тошнотворное отвращение. Ненавистная постель еще не так отвратна, как все, что творилось за дверью и рядом. За дверью паскуднее, чем рядом. Вечерняя молитва, пропитанная смрадом всеобщей неприязни, вклинившаяся в детский рассудок и ужасающе заостренная воображением здесь, наверху. Там — непонимание, плотские утехи, вечерняя молитва, произносимая зачастую лишь для того, чтобы заглушить звуки спаривающихся тел. Если для этого не хватало времени, то к молитве попросту добавлялся еще один "Отче наш", исторгаемый в сладострастном стоне, и притом из лучших побуждений. Холлю это было непонятно, он вспоминал то, что рассказывали эти люди друг о друге, с блеском в глазах и с похотливой улыбкой. Он слушал и онанировал, он вспоминал эти рассказы за завтраком, он обводил глазами усталые лица, сравнивал и находил в них такую печаль, что воткнуть лопату в навоз казалось почти удовольствием.
Читать дальше


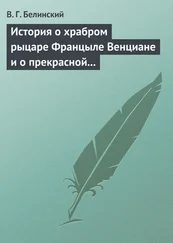


![Кирилл Чекалов - Популярно о популярной литературе. Гастон Леру и массовое чтение во Франции в период «прекрасной эпохи» [litres]](/books/430236/kirill-chekalov-populyarno-o-populyarnoj-literature-thumb.webp)






