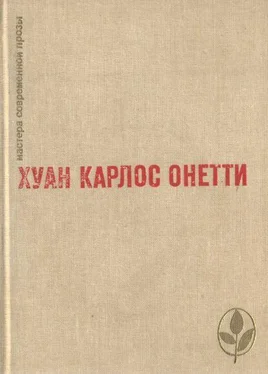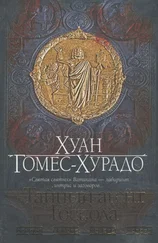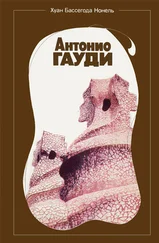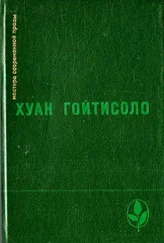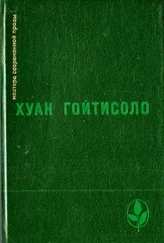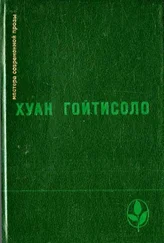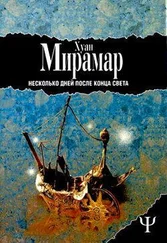Правдой было то, если бы мы могли поклясться, что этот призрак жил среди нас и наваждение длилось три месяца, правдой было то, что Монча Инсаурральде выезжала почти ежедневно из дома в такси или в «опеле», одетая всегда и словно навеки — так по крайней мере казалось — в подвенечное платье, которое сшила ей в столице мадам Карон из шелка и кружев, привезенных из Европы ради торжественного венчания с одним из Маркосов Бергнеров, придуманным ею в далеких странах, с благословения некоего отца Бергнера, неизменного, серого и каменного. Оставалось умереть только ей.
Дела шли именно так, а не иначе, как бы их ни перетасовывали после того, как все случилось и стало уже непоправимым.
Разные неожиданности, твердые заявления стариков, не желавших открывать тайну, неизбежные противоречия помешали точно установить день, вечер первого великого испуга. Монча приехала в отель «Пласа» на своей кашляющей машине, отпустила шофера и прошла, словно во сне, к столику с двумя приборами, который заказала заранее. Подвенечное платье с длинным шлейфом привлекло все взгляды и долгое время, больше часа, оставалось почти неподвижно перед пустотой — тарелки, вилки и ножи, — пребывавшей напротив. Она, оживленная и любезная, обращалась с вопросом к несуществующему собеседнику и задерживала поднятый бокал, ожидая ответа. Все почувствовали в ней породу, неоспоримую, привитую с детства воспитанность. Все увидели, правда по-разному, пожелтевшее подвенечное платье, рваные кружева, кое-где висящие клочьями. Она была под защитой равнодушия и страха. Лучшие из очевидцев, если нашлись такие, полагали, что платье связано с каким-нибудь счастливым воспоминанием, тоже пострадавшим от времени и неудачи.
Ни слишком рано, ни поздно сам метрдотель — Монча все-таки звалась Инсаурральде — подал мнимый счет на подносике и оставил его точно посередине между нею и другим — отсутствующим, невидимым, отделенным от нас, от Санта-Марии бесчисленными морскими милями, жадностью голодных рыб. Он спросил о чем-то едва слышно, склонившись с улыбкой на толстом безмятежном лице. Казалось, он благословляет, освящает, словно пастырь. Его смокинг вполне мог сойти за стихарь.
Необходимо было наладить тайные и одинокие посещения ресторана, где она обедала с Маркосом. Задача трудная и сложная, поскольку речь шла не просто о физическом перемещении. Ей хотелось, чтобы особое душевное состояние появилось заранее и надолго; порой она чувствовала, как возникает в ней, казалось, утраченная навсегда сила духа, позволяющая ждать встречи, и она знала, что эта радостная, несгибаемая сила не покинет ее до конца ночи, до того самого часа, когда можно с уверенностью сказать, что в Санта-Марии все закрыто. Более того, ее душевное состояние должно держаться и после часа закрытия, должно длиться в ночном одиночестве и навевать сладкие сны. Ибо следует понять, что все остальное, то, что мы, сантамарийцы, упорно называем реальностью, было для Мончи так же просто, как любой естественно совершаемый физиологический акт. Позвонить метрдотелю ресторана «Пласа», заказать столик «ни очень близко, ни очень далеко», сообщить ему о возвращении Маркоса и желании это отпраздновать, поспорить о выборе блюд, потребовать любимое вино Маркоса, вино, которого уже давно не было, которое к нам больше не привозили, вино, которое некогда продавалось в высоких бутылках с выцветшими этикетками.
Постаревший, уже не улыбающийся Франсиско, метрдотель, спокойно поддерживал эту телефонную игру, не изменяя своим давнишним привычкам, подтверждал, что несуществующее вино обязательно будет подано, конечно, несомненно, шамбре, лишь чуть выше или чуть ниже идеальной, недостижимой температуры.
День устанавливается с непреложной точностью. Однако же, кто-нибудь, любой может поклясться, что видел сорок лет спустя после написания этой истории Мончу Инсаурральде на углу возле отеля «Пласа». Нас не интересуют подробности этого зрелища, муниципальные успехи Санта-Марии, которыми будет хвалиться «Эль Либераль». Важно только то, что все дружно говорят, будто видели ее, и описания их совпадают. Она стала гораздо меньше ростом, подвенечное платье почернело, на голове соломенная шляпка с темными лентами, слишком маленькая даже для моды, введенной сорок лет спустя; опираясь на тонкую трость черного дерева с обязательной серебряной рукоятью, одинокая и решительная, осенним вечером — так нежен ветерок, так мягко звучат гудки буксиров на реке она ждет, не отрывая терпеливого, насмешливого взгляда, пока уйдут посетители, занявшие именно тот столик, расположенный ни очень близко, ни очень далеко от входной двери и от кухни. И всегда в этом бесконечном времени, возникшем после того, как прошло сорок лет, наступал момент, когда столик освобождался и она могла двинуться вперед, притворяясь, будто лишь из кокетства опирается на свою трость, поздороваться с Франсиско или изрядно подросшим внуком Франсиско, двинуться навстречу нетерпению Маркоса и небрежно извиниться за опоздание. Бог не покинул небеса и царил на земле, Маркос, подвыпивший, неувядаемый, прощал ее, шутя и поругиваясь, и протягивал над скатертью букетик первых фиалок этой сорокалетней осени.
Читать дальше