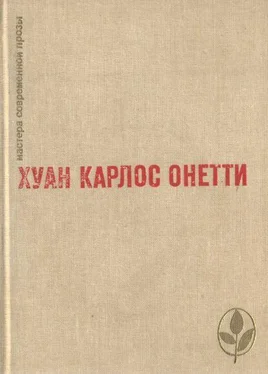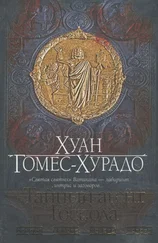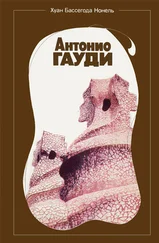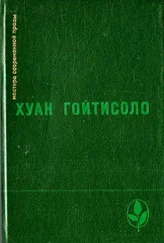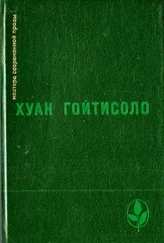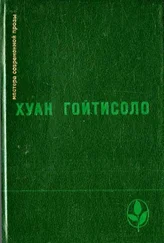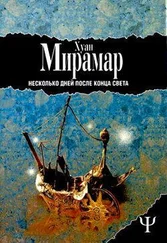Она подошла к письменному столу, пока Диас Грей расстегивал халат и закуривал сигарету, открыла сумку, перевернув ее, и оттуда все выпало, а губная помада и какие-то мелочи раскатились по столу. Врач не смотрел — он только видел, хотел увидеть ее лицо.
Она вытащила деньги, смяла их с отвращением и положила подле его локтя.
«Безумна, не на что надеяться, не о чем спрашивать».
— Я плач у , — сказала Монча. — Плач у , чтобы вы прописали мне лекарство, лечили меня, повторили вместе со мной: я скоро выйду замуж, я скоро умру.
Не прикасаясь к деньгам, не отвергая их, Диас Грей встал, сбросил халат, такой белый, такой накрахмаленный, и взглянул на ее искаженное лицо; грубая раскраска под прямо падающим из окна светом еще больше поражала невероятным сочетанием цветов.
— Вы скоро выйдете замуж, — повторил он покорно.
— Я скоро умру.
— Такого диагноза нет.
Она улыбнулась мимолетной девической улыбкой и стала собирать все мелочи в сумку. Бумаги, записные книжки, драгоценности, духи, гигиеническая бумага, золотая пудреница, карамельки, пастилки, надкусанное печенье, какие-то усохшие объедки.
— Но вы не понимаете, доктор. Вы должны поехать со мной. Внизу ждет машина. Это близко, я устроилась на несколько дней или навсегда, сама не знаю, в отеле.
Диас Грей отправился с ней и все увидел как отец. Пока она показывала свои тайные сокровища, он рассеянно гладил ее по неспокойной голове, по плечам, едва не коснулся груди.
Увидел Диас Грей десятую часть того, что могла бы увидеть и описать любая женщина. Шелка, кружева, прошивки, горы белой пены на кровати.
— Теперь понимаете? — сказала женщина, как бы и не спрашивая. — Это для моего подвенечного платья. Маркос Бергнер и отец Бергнер. — Она улыбнулась, рассматривая белое облако на темном покрывале. — Вся семья. Отец Бергнер обвенчает меня с Маркитосом. День мы еще не назначили.
Диас Грей закурил сигарету, готовясь к отступлению. Священник вот уже два года как умер во сне; Маркос умер полгода назад у своей любовницы, после пирушки. Но, подумал он, все это не имеет значения. Правдой было то, что еще можно было услышать, увидеть, даже потрогать. Правдой было то, что Монча Инсаурральде вернулась из Европы, чтобы священник Бергнер обвенчал ее в соборе с Маркосом Бергнером.
Он согласился и сказал, поглаживая ее по спине:
— Да. Конечно. Я был в этом уверен.
Монча опустилась на колени и нежно поцеловала кружева.
— Там я не могла быть счастлива. Мы обо всем уговорились в письмах.
Невозможно было вовлечь весь город в заговор обмана или молчания. Однако же Монча была окружена, еще до того, как надела подвенечное платье, свинцовой, пробковой стеной молчания, и эта стена не давала ей понять или даже услышать хоть что-нибудь опровергающее ее правду, которую мы теперь создавали и приукрашивали вместе с ней. Отец Бергнер был в Риме, все время задерживался и присылал цветные почтовые открытки с изображением Ватикана, все время переходил из одной приемной в другую, все время прощался с кардиналами, с епископами в шелковых сутанах; потом шли бесконечные вымыслы об отроках в монашеских одеяниях, церковной утвари, клубах курящегося ладана.
А Маркос Бергнер все время возвращался на своей яхте с дальних сказочных берегов, все время привязывал себя к мачте, когда разражались неизбежные, но всегда укрощаемые бури, днем и ночью вертел колесо штурвала, возможно чуть пьяноватый, и видел перед собой незабываемое лицо, возвращаясь среди соли и йода, от которых росла и рыжела его борода, как в счастливом конце, изображенном на пачке английских сигарет.
Вот так все и было: неизвестность относительно точного дня возвращения, несомненная, постоянная надежность слова или обещания одной из Инсаурральде, бискайского слова, которое, даже не произнесенное, остается весомым раз навсегда, навеки. Мысль, быть может, никогда не продуманная до конца; гордое обещание, данное перед всеми, твердое и нерушимое, всегда бросающее вызов, способное защитить ее от непогоды, ливня, ветра, града, плесени, яростного солнца, просто от времени.
И мы все, мы помогли ей, не испытывая предчувствий и укоров совести, погрузиться в короткую первую часть драмы, в пролог, который пишется для невежд. Мы говорили ей «да, да», соглашались, что это срочно и и необходимо, возможно подсаживали ее в поезд, возможно надеялись, хотели никогда больше ее не видеть.
И вот, подвигнутая нашей доброй волей, нашим оправданным лицемерием, Монча, Монча Инсаурральде или Инсурральде, отбыла в столицу, выражаясь языком газеты «Эль Либераль», дабы мадам Карон превратила ее шелка и кружева в подвенечное платье, достойное Мончи, Санта-Марии, покойного Маркоса Бергнера — мертвого, но плавающего на яхте, покойного отца Бергнера — мертвого, но продолжающего без конца прощаться в Ватикане, в Риме, в старой сельской церкви, придуманной нами напоследок.
Читать дальше