— Есть птичка, — яростно говорит человек в ермолке. — Твоя, видно, еще не вылупилась.
— Откуда?
— Из памяти. Потому, наверно, и ты хочешь, чтобы я скорей ушел. К кому ни придешь, все хотят, чтобы я скорей ушел.
— А почему все хотят? — спрашивает Зельда, пораженная его догадливостью.
— Почему? Потому, что их память — свалка страхов. Одни про меня думают: вор, другие — сумасшедший, третьи — нищий…
— А на самом деле?
— И вор и сумасшедший, и нищий… Вор потому, что украл себя у родных… у близких… сумасшедший потому, что не похож на других… настоящих воров… а нищий потому, что побираюсь чужими грехами… Я слышал, как ты в лесу просила господа о грехе…
— Ничего я не просила, — краснеет Зельда. — А зачем вам чужие грехи? Своих мало?
Человек в ермолке пропускает мимо ушей ее колкость и продолжает:
— До судного дня я обхожу все местечки и кладбища. В прошлом году аж до Витебска добрался. Грешная губерния, грешная. Думал, не донесу, надорвусь…
— Чего не донесете? — допрос забавляет Зельду.
— Грехи к господу. В судный день… как только зажжется первая звезда… всевышний спускает мне лестницу, как праотцу нашему Иакову. Я поднимаюсь по ней, и мы сидим с господом на пуховом облаке, едим картошку в мундире и кого караем, кого милуем. В прошлом году господь никого не помиловал… Просил я его за одного портного… он из ревности жену убил… не помогло…
— А в нашем местечке много собрали? — улыбается Зельда.
— Только начал, — серьезно отвечает человек в ермолке. — Для начала немало. За вами тоже грех числится.
— За нами?
— За твоим отцом.
— Мама?
— Пасынок ночного сторожа Рахмиэла Арон. Твой отец его вместо собственного сына в рекруты сдал.
— Вместо Зелика? Я и не знала.
— За такой грех господь бог по головке не погладит. А что он с матерью сделал?
— Ничего. Просто не любил ее.
— Это не грех. Это несчастье. Я тоже не люблю свою жену.
Человек в ермолке берет свою обувь и босиком выскальзывает во двор.
Зельда видит, как он идет по саду, надев на обе руки башмаки, как нагибает голову, словно небо для него слишком низко, как оглядывается на дом и исчезает в дверном проеме бани.
Ну и денек! Спасибо еще — не изнасиловал, не придушил, серебро не вынес, ежится Зельда. Бедняга собирает грехи — ну и пусть себе на здоровье собирает, бедняга ищет птичку — ну и пусть ищет. В доме есть все: деньги, мебель из красного дерева, висячая лампа, купленная у шляхтича, немецкий клавесин, а грехов и птички нет. Рахмиэлов Арон — не грех, а сделка. Бедняга ждет, когда наступит судный день и господь бог спустит ему лестницу. Но он, должно быть, забыл, из чьих она досок. Из сосновых досок Маркуса Фрадкина! Так что искупление и божья милость отцу обеспечены.
Дзинькает колокольчик.
Нестеровичи, догадывается Зельда.
— Здравствуйте, Зельда Марковна, — говорит Катюша. — Мы вам свежую клубнику принесли.
И ставит у ее ног корзину
Хочется плакать. И еще хочется старой, пропахшей линями, еврейкой висеть на стене, смотреть из рамки на чужие грехи, на кошачью спину Голды, на свежую клубнику и изредка от скуки каркать: клараукарлаукралакларнет!
Ночной сторож Рахмиэл знает: беда, как сватья, одна не приходит, обязательно сосватает тебе еще какую-нибудь напасть. Весной, в самый канун пасхи, скрутило у него поясницу, как будто перетянули спину бондарным обручем, шаг шагнешь, нагнешься, боль во все стороны так и брызжет. Раньше Рахмиэл думал: поясница, как и задница, никогда не болит. Болит то, что трудится: ноги, руки, глаза, уши, даже сердце, но бездельница-поясница!..
Всю пасху Рахмиэл ворочался с боку на бок, кряхтел, охал, по совету Казимераса прикладывал к крестцу накаленный кирпич, завернутый в мешковину, а когда и кирпич не помог, сходил к Ешуа, купил штоф водки, позвал Казимераса, дай бог здоровья ему и его безрогой козе, разделся по пояс, лег на выщербленную лавку и велел:
— Три!
Казимерас плеснет на ладонь капельку, понюхает для начала и трет. Трет и поглядывает то на штоф, то на больного. Ему и Рахмиэла жалко, и водки. Рахмиэл лежит со спущенными подштанниками, стонет, и от него, как от осенней пашни, перегноем пахнет.
— Давай лучше выпьем ее, — отчаялся Казимерас. — Авось поможет.
Рахмиэл выпил и — надо же — боль как рукой сняло.
Но то было перед пасхой, а после пасхи новая хворь пожаловала. Ногу судорогой свело, левую, увечную. По правде говоря, там и ноги-то нет, высохший стебель подсолнуха, жердина из плетня, теленок боднет — и надвое.
Читать дальше
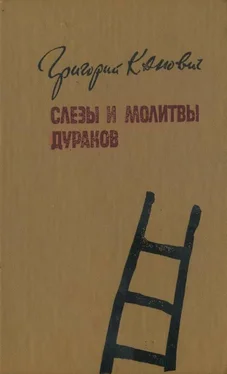








![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)