Я открываю еще одну картинку и тупо разглядываю ее. На ней изображена сцена в то же воскресенье вечером, после стипль-чеза на лугу у миссис Джонс-Толбот. Мы все отправились ужинать к Кадвортам. Мы — в общей сложности человек двадцать — сидим вокруг огромного, видавшего виды старого стола из палисандрового дерева. Сидим на чем придется: на стульях из палисандрового дерева — наверное, остатках бывшего гарнитура, на ветхих кухонных стульях, на табуретках, Бог знает на чем, и наши лица освещают свечи, воткнутые в массивный, старинный серебряный канделябр, в пару бутылок из-под виски с этикетками, давно залитыми стекающим воском, в старую трехлитровую бутыль из-под шампанского и в маленький глиняный кувшинчик. Все лица, улыбающиеся и радостные, словно купаются в волнах счастья и веселья, и я с непонятным страхом замечаю, что эти волны начинают захлестывать и меня. Я чувствую себя ребенком, который, забредя по колено в море, ощущает, как течение понемногу вымывает песок на дне у него из-под ступней, как играют у его ног бурунчики, грозя утащить дальше, на глубокое место, и видит, как там взрослые, умеющие плавать, плещутся и смеются, слышит, как они зовут его к себе, обещая позаботиться, чтобы с ним ничего не случилось.
Кад Кадворт стоит во главе стола с бокалом вина в руке и что-то говорит, и все смеются, но я чувствую только эту атмосферу счастья, которая понемногу затягивает меня, вызывая ощущение неведомой опасности. Я не слушаю Када, но потом вдруг слышу, как он говорит, что сегодня отмечается обручение. Он говорит, что они с Салли уже отведали супружеской жизни, и оказалось, что она не так уж и плоха, и теперь они собираются пожениться. По-настоящему пожениться, по всем правилам, говорит он. Чтобы целыми ночами расхаживать по комнате, напевая гимны, а когда заболит животик, возиться с детским питанием и менять пеленки.
— Потому что Салли, — объявляет он с трагической ноткой в голосе, и его докрасна обветренное круглое лицо и лысеющая голова с выступившими на них капельками пота блестят при свете свечей, — наконец-то залетела.
Тут он поднимает свой бокал с вином, в котором играют красные отблески, и провозглашает:
— Vive la République! Vive le mystère de la nature! Vive la réproduction! Vive буйство Жизненной Силы! Vive la Салли! [18] Да здравствует Республика! Да здравствует великая тайна природы! Да здравствует продолжение рода! Да здравствует… Да здравствует… (фр.).
Поднимается громкий веселый шум, вино выплескивается на стол, один за другим раздаются тосты, иногда по-дружески соленые, и посреди всеобщего нарушения приличий и забвения хороших манер Мария исчезает со своего места рядом со мной и оказывается около будущей матери. Склонившись к ней, она обнимает ее за плечи, принимается целовать и между поцелуями говорит: «Ах, как я рада! Как я рада!»
Я смотрю на них и, когда с поцелуями покончено, вижу два лица, щека к щеке — две головы, темноволосую и рыжеволосую, и темные волосы скромно блестят при свете свечей, а рыжие сверкают и искрятся, и карие глаза сияют — глаза цвета лисьего меха или побуревших дубовых листьев в октябре, с росой на них, сверкающей под утренним солнцем, — и оба лица, освещенные свечами, еще и словно светятся одним общим внутренним светом.
А по другую сторону стола я вижу Розеллу, чей пристальный — и, по-моему, печальный — взгляд устремлен на эти лица, но не могу понять, что означает этот взгляд.
Потом Мария возвращается на свое место, а Салли теперь смотрит на Када, который все еще стоит и продолжает ораторствовать, заявляя, что если подумать, то тут нечему особенно радоваться. Это все, говорит он, просто подлая бабья манера отлынивать от работы. Кому, черт возьми, говорит он, теперь придется весной садиться за руль трактора и пахать?
А Салли перебивает его, декламируя мелодраматическим тоном:
Вы оборвали общий разговор,
И всех пугает ваше повеленье [19] «Макбет», акт III. Перевод Б. Пастернака.
.
И добавляет:
— К тому же ты слишком много болтаешь.
— Кого это ты вздумала изображать из себя? Леди Макбет? — возмущенно вопрошает Кад.
— Тс-с-с! — успокаивает всех Салли, приложив палец к губам, и продолжает в том же тоне:
Не говорите с ним. Ему все хуже.
Расспросы злят его.
— Верно! — восклицает Кад. — Я просто в бешенстве!
И вот еще одна карта, а на ней другая картинка.
Кад стоит около бара в углу гостиной со стаканом в руке и говорит мне:
— …И когда я отправился на север, в страну янки, и поступил на юридический факультет Йеля, я жаждал крови, и когда устроился в шикарную фирму «Макфарлейн, Кимбол и Кершоу», был готов всем горло перегрызть, лишь бы пробиться. Я лез из кожи, голодал и добивался своего. Ну и развлекался тоже, конечно, но не в таком обществе, которого не одобрил бы старик Макфарлейн. У меня была уютная квартирка — хорошо обставленная, с громадной кроватью и двумя туалетами, и я даже уговорил себя влюбиться в одну хорошенькую молодую сучку, которую даже старик Макфарлейн счел бы вполне приемлемой, потому что не знал про нее того, что знал я. А потом я выиграл действительно важный процесс — мне его поручили, поскольку считали безнадежным. И знаешь, на следующее утро после того, как я выиграл этот процесс, я долго лежал, уставившись в потолок. И это было никакое не похмелье. Потом я встал, постаравшись не разбудить свою маленькую подружку — почти невесту, — она лежала там хорошенькая, как картинка, хоть и растрепанная и замученная после всего, что было ночью, и тихо похрапывала. Я благоговейно поцеловал ее, натянул штаны, на цыпочках вышел и отправился прямиком на Уоллстрит, в контору Старика.
Читать дальше
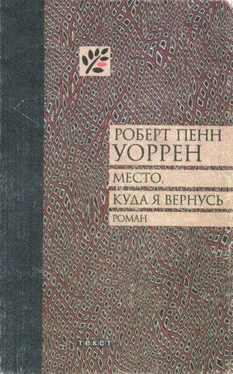





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
