Конь и всадница скрылись из вида за овечьим загоном.
— …Как бы от чистого сердца, — закончила она и умолкла, как будто ожидая подтверждения. — Правда ведь?
Я вспомнил лицо всадницы в высшей точке ее полета, вырисовывавшееся на фоне неба.
— Да, — сказал я.
Некоторое время мы сидели молча. В дальнем конце луга снова показалась миссис Джонс-Толбот, и Розелла снова не сводила с нее глаз.
— Если бы мне надо было выбрать, на кого я хочу быть похожей, — произнесла она задумчиво, — то думаю, что выбрала бы ее.
Она все еще смотрела вдаль. Потом вдруг встала.
А я остался сидеть, размышляя о том, что бы такое Мария могла рассказать мне о своей матери. Потом — почему Розелла не хочет мне этого сказать. Потом — почему, хотя все так много говорят о Марии, никто даже намеком не обмолвился, что ей есть что рассказать. Почему все в Нашвилле ждут, когда Мария мне что-то расскажет. Почему все они, как и Розелла, считают, что Мария должна рассказать мне что-то сама.
И в то же время я думал о том, что будь я проклят, если стану выведывать и разнюхивать. Пусть она расскажет это мне, когда сочтет нужным, что бы это там ни было, да и кому вообще это интересно? Уж во всяком случае, не мне. И в это мгновение я ощутил ту же грусть, ту же жалость, почти нежность, что и тогда, когда незадолго перед этим увидел, как ее лицо превратилось в белую безжизненную маску и губы сжались в белый заживший шрам.
А Розелла стояла рядом со мной и что-то говорила.
— Ах, прости, — сказал я. — Что ты сказала?
— Вот старый дурак, — ответила она, усмехаясь. — Ты что, никогда не слушаешь, что я говорю? Я сказала, что тетя Ди — тот человек, на которого я больше всего хотела бы быть похожей.
— Это я слышал. А что ты сказала только что?
— Что каждому, наверное, все равно приходится мириться с тем, какой он есть.
Однажды, еще в июне, когда я в середине дня на попутных машинах добрался из Блэкуэллского колледжа до Дагтона, чтобы повидаться с матерью перед тем, как устраиваться на лето на работу, я увидел на Джонквил-стрит несколько мальчишек, лет девяти — одиннадцати, которые сидели на потрескавшемся асфальтовом тротуаре под кленом, дававшим немного тени, и играли в карты. Я остановился и стал смотреть. Карты были сильно потрепанные — наверное, остатки от двух или трех старых колод, потому что я заметил несколько пар одинаковых, — и мальчики с лихорадочным вниманием разглядывали карты у себя в руках. Перед каждым на потрескавшемся асфальте лежало по кучке жестяных крышечек от кока-колы. Один из них выставил крышечку и сказал:
— Ставлю доллар.
Ставки росли с головокружительной быстротой, пока один не сказал:
— Готово!
Все открыли свои карты.
— У меня больше картинок! — крикнул один.
— Нет, у меня больше! — крикнул другой.
— Нет, у меня! — крикнул третий, и началась свалка вокруг кучки крышечек, лежавшей посередине.
— Во что это вы играете? — спросил я.
Их грязные физиономии, уже почти мальчишеские, но с глазами, еще по-младенчески широко раскрытыми, повернулись ко мне, все в пятнах солнечного света, пробивавшегося сквозь листву клена.
— В покер, — важно ответил один и сплюнул на мостовую.
— Эй, мистер, — сказал другой, не желая отстать, — ты чё, ничего не понимаешь, что ли? Это покер.
Я сказал, что да, ничего не понимаю, и пошел дальше по улице, сквозь палящий летний зной и тишину, которую нарушало только печальное пение петуха вдали на чьем-то дворе. И вот теперь, когда я это пишу, вспоминая тот воскресный день на лугу миссис Джонс-Толбот, я чувствую себя так, как будто я один из этих мальчишек, играющих в покер на горячем потрескавшемся асфальте Джонквил-стрит. Пусть даже я знаю правила покера и значения всех карт в этой игре, но я не знаю ни правил, ни значения карт в той игре, в которую играю сейчас. Я знаю одно: что у меня в голове множество картинок, которые я просто перебираю и пересчитываю. Я не знаю — может быть, какая-то незначительная на вид карта с простым рисунком ценнее, чем любая картинка, а может быть, иногда даже жалкая двойка или тройка может сорвать банк.
Я только что выложил такую картинку, на которой изображены то воскресное утро на лугу и всадники, взлетающие в голубое небо и парящие над барьерами в полной тишине, как будто в сновидении, и я не уверен, что сейчас понимаю значение этой картинки лучше, чем тогда.
В своей теперешней игре я понимаю даже меньше, чем те мальчишки — в своей. Я знаю только — она больше похожа на пасьянс, чем на покер, и больше того: мне только что стало ясно, что этот пасьянс — моя судьба.
Читать дальше
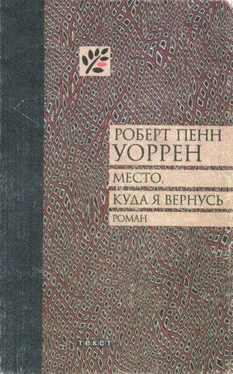





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
