Впрочем, я, скорее всего, ошибаюсь, потому что несколько дней спустя ко мне снова подступили с просьбой повторить мое самое эффектное представление для двух новичков в этой компании, и я было уже встал, чтобы выполнить просьбу, но тут вдруг услышал собственный голос, который с профессиональными актерскими интонациями, старательно копируя выговор белого южанина-бедняка из захолустья, произнес: «Вот что, парни, я чегой-то не пойму, почему это из вас ни один сукин сын мне не рассказывал, как у него помер папаша».
Это положило конец моим успехам в обществе. Это положило конец и моим успехам в сексуальной жизни — то есть моей первой в жизни связи с порядочной белой девушкой, некоей Дофиной Финкель, еврейкой, имевшей богатого отца, бездонные восточные глаза, безупречное французское произношение, безукоризненный сталинистский образ мыслей, впечатляющую коллекцию отличных оценок, хотя она и была самой молодой из аспирантов, и замечательное тело, удивительный набор роскошных округлостей и изгибов, — с девушкой, которая могла быть то ласковой и нежной, словно дыхание ребенка, то безапелляционной, как гаечный ключ.
В тот вечер, когда я впервые изобразил смерть отца, я еще не успел сесть, как она подошла ко мне, привлеченная, несомненно, тем, что я был для нее живым воплощением абстракции, загадкой и возможным полем деятельности. Воплощением абстракции, потому что я оказался тем реальным существом, с какими она была знакома только по книгам или фотографиям; загадкой, потому что ей было непонятно, как это я, выросший в столь малообещающих жизненных обстоятельствах, так хорошо знал латынь и имел почти столь же блестящие оценки, как и она; и возможным полем деятельности, потому что в силу моей полной политической неграмотности я был подходящим объектом для оттачивания ее не по годам изощренной диалектики, которой она с жаром предавалась. Я думаю, сюда примешивалось еще и обыкновенное женское любопытство: интересно, каков окажется сын Франта Тьюксбери — так я любовно называл отца в своей маленькой интермедии — в ее объятьях.
Таким образом, для социального, сексуального и политического воспитания сына Франта Тьюксбери все складывалось очень удачно, и можно даже сказать, что в этой мешанине истории, диалектики, простейших вожделений и самолюбивых характеров вполне могла зародиться и любовь. Но к тому весеннему вечеру 1941 года, о котором мы говорим, Дофина уже успела настолько просветить сына Франта Тьюксбери в вопросах политики, что ему стали казаться немного странными переменчивость ее взглядов на международные события и страстная защита Адольфа Гитлера и его дружбы со Сталиным, и он уже не раз осторожно указывал ей на эту непоследовательность. Другими словами, кризис уже назрел. Поэтому, когда Дофина, вдруг преисполнившись буржуазного чувства превосходства, принялась пенять ему за его, как она выразилась, дурные манеры и добавила, что он просто фашист-южанин из захолустья, он был уже готов окончательно подрубить сук, на котором сидел. Он возразил, что, насколько он понимает, на самом деле вовсе не он здесь фашист и гитлеровский прихвостень и чикагской еврейке, как бы она ни была богата и в силу этого защищена от реальности и неподвластна логике, не следовало бы вставать на сторону маляра-неудачника, превратившегося в массового убийцу, — это говорит о недостаточном расовом самоуважении.
Дофина залилась слезами и отвесила ему пощечину, после чего между ними все было кончено. Несколько недель ему казалось, что сердце его разбито. Но и логика, и самолюбие не позволили ему просить прощения. Единственным утешением для него было то, что Дофина выглядела очень бледной и несчастной, оценки у нее стали заметно хуже, она держалась понуро и замкнулась в себе. А он просыпался среди ночи с возгласом: «Ну почему? Почему?»
Если в эпизоде на школьном дворе я познал ненависть к своему отцу, то вовсе не перестал ее испытывать в тот вечер в Чикаго, когда отказался изображать его смерть перед компанией подвыпивших, но не забывающих о своем социальном положении аспирантов. Мое отношение к нему слишком глубоко укоренилось и, надо добавить, на протяжении нескольких лет после этого первого эпизода на школьном дворе из-за многочисленных аналогичных случаев настолько укрепилось, что не нужно было даже разыгрывать передо мной все представление: стоило сделать один только ключевой жест, как я бросался в драку. От слез к кулачной расправе я перешел очень скоро, и теперь старшему мальчишке достаточно было уговорить или заставить кого-нибудь из младших сделать в моем присутствии этот многозначительный жест, после чего двор облетал клич: «Драка! Драка!» — и все бежали смотреть на это увлекательное зрелище.
Читать дальше
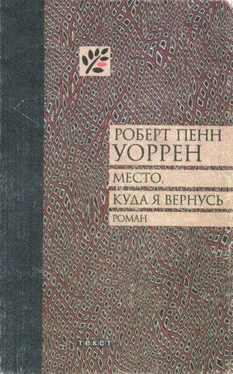





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
