Я опустил глаза и уставился на кончик своего носа. Возможно, от смущения я опять косил.
— Есть страшно хочется, — сказал я.
— Тебе повезло! — воскликнула моя бабушка. — Дед как раз жарит шкварки. Заходи давай.
Я им признался во всех своих грехах.
— Но как же случилось, что тебя никто не накрыл? — удивились они.
Пришлось объяснить им и это.
Однажды, когда мои родители уже не любили друг друга и ссорились между собой (я не помню о чем, помню только, что ссора была более жаркой, чем из-за свинины в кисло-сладком соусе или из-за моего воспитания), моя мать крикнула:
— Это все пойдет в твое личное дело!
Личное дело — это, наверное, что-то вроде дневника, куда заносится все, что необходимо знать о сотруднике на работе: день рождения и учеба в школе, степень образования и семейное положение, членство в партии и другое, хорошие дела человека, например когда он активист, и плохие, например развод. У школьника личного дела не бывает, зато у него есть дневник для отметок. Кроме того, ему дается направление для перехода в другую школу. Моя мать получила такое направление и должна была сдать его в большом городе в новую школу, которая выглядит точь-в-точь как моя старая в Хоэнцедлице. Они все построены по типовому проекту. Но когда Вольди забыл свой заграничный паспорт, произошел исключительный случай. Мать бросилась в аэропорт догонять своего рассеянного супруга, предварительно сунув мне в руки направление. Я хранил его очень бережно. Я продемонстрировал им направление, оно выглядело как новенькое.
Из-за этого отрывной листок направления так и не был возвращен школой № 12 в Хоэнцедлиц. Это же ясно. Через какое-то время матери прислали напоминание. Я обнаружил письмо со штампом хоэнцедлицкой школы в почтовом ящике, когда вынимал оттуда газеты Я тут же сообразил, чем мне это грозит. Письмо показалось мне таким тяжелым, что оно как-то само выскользнуло из моих рук и оказалось как раз между стопками старых газет. Я представил себе, как страшно расстроится моя мать, мне стало ее ужасно жаль, глаза у меня затуманились, и я чуть было не разревелся. Я будто ослеп и связал письмо в одну пачку со старыми газетами, которую сдал в макулатуру. За это я получил двадцать пфеннигов, которые так жгли мне тело сквозь карман, что на следующем же углу я купил на них мороженое. Вот так мне и удалось обвести всех вокруг пальца, чего на самом деле, конечно, быть не может.
Бабушка с дедушкой не ругали меня и не жалели, они то и дело качали головой и вздыхали.
Прежде чем идти наверх спать, дедушка сказал:
— Если бы ты прогулял один, два или три дня, я бы еще мог понять. Но ты перегнул палку, вот что самое ужасное.
— Надо вызвать Хайнера, пока не приехали остальные, — сказала бабушка.
Забравшись под одеяло, я почувствовал, что устал как собака. В доме никто не ходил, дерево не скрипело и «не работало», а может, я этого просто не слышал, потому что тут же уснул как убитый. Но посреди ночи мне приснилось, что я непременно должен проснуться. Я ужасно напрягался, чтобы хоть немного приоткрыть налитые свинцом веки, как вдруг увидел за окном в чердачном люке зеленые световые сигналы. Я тотчас догадался, что это вовсе не сигналы из космоса, это мой друг Мунцо снова заработал своими лазерными лучами и заставил меня проснуться.
Выбравшись из постели, я открыл окно. Мунцо просунул свою большую голову через люк и одним прыжком очутился на моей кровати. Разумеется, в зубах у него находилась мышь, которая еще слегка подергивалась. Я так устал, что даже забыл поблагодарить его.
— Ешь ее сам, дружище, — сказал я. — Я не умею жарить мышей.
И я чуть было не уснул сидя.
На следующее утро я сделал последнюю зарубку на балке спальной каморки в Пелицхофе. Это был скверный день, но в конце концов все закончилось, как с тем слугой из сказки братьев Гримм «Принц-лягушонок», когда расколдовали принца: «Генрих, карета трещит!» — «Нет, господин, то железо свищет!» Верный слуга велел сковать свое сердце тремя железными обручами, иначе оно разорвалось бы от горя, когда принца превратили в лягушку. И раздавался треск не от износившейся оси колеса, а от лопнувших на радостях обручей, сдавливавших сердце верного Генриха. Наконец-то он вздохнул свободно.
Примерно так чувствовал себя и я после спасения кота Мунцо.
15
День прошел не так, как я себе представлял. Довольно рано я услышал треск мотоцикла. Это приехал отец. Жаль, что мне не удалось поздороваться с ним с той сердечностью, как я себе это представлял. Дело в том, что сам-то я был голый, а отец в полной экипировке: лето уже прошло, и мы находились не на берегу Большого Пелицкого озера, а на кухне у моей бабушки. Я стоял обеими ногами в железном тазу.
Читать дальше
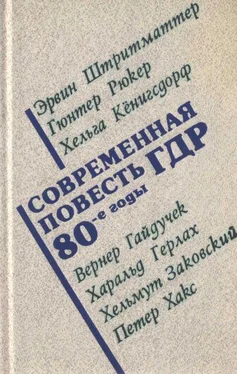







![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)



