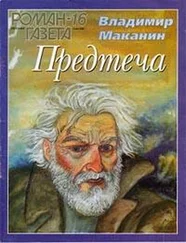Стоял июньский вечер, на закате, — тропа вела и вела. В домике старик. И его дочь, молодая женщина. Рожает. В прошлом году постоем были казаки, один из них, веселый, спал с этой женщиной: неделю не отпускал от себя. Через неделю дал пинка: «Ступай теперь. Даст бог — будешь покрытая», — посмеялись, на то и казаки. А уезжая, казак пояснил, и уже не без серьезности: «Чего ж ей пустой по жизни ходить — зачем живет?»
Теперь она, на постели, кричала: «Оо-о-ой, горюшко мое!.. Оо-о-ой, худо мне!» — и терла зубами о зубы.
Живот стоял горой. В углу, в близком, коптила лампа.
— Пустишь жить? — спросил офицерик старика.
— Кто такой?
— Никто. Но буду жить смирно… Ухаживать буду.
Старик не ответил ни да ни нет.
— Посмотрим, — прошамкал он наконец. — Ступай задай корове корм. Подои ее сначала. Подойник прихвати — в сенях найдешь, на скамье.
А женщина кричала.
Он подоил. Убрал в хлеву. Нашел накошенную и бросил корове свежей травки, вернулся. Уже смеркалось.
— Лампу держать будешь, — сказал ему старик.
Бывший офицерик взял лампу в руки — лампа коптила, бревенчатые стены в красных отблесках ожили и задвигались. Схватки тем временем накатывали одна за одной; старик следил. «О-ой, оставьте же меня!» — выкрикивала женщина. «Щас, — монотонно и тупо повторял старик. — Щас». Потом откинул одеяло. Офицерик отвернулся, смотрел в сторону лампы, которую держал. Старик принес чугун воды. Влил ее в таз. Из таза валил пар. «Щас, — повторял старик, — щас».
«Ой, что же вы со мной делаете — зарежьте меня», — плакала женщина.
«Щас зарежем», — старик стал водить рукой по ее животу; он водил кругами. Офицерик уже привык. Глаза его смотрели, видели, и уже ничего особенного в родах не было, все было понятно. Женщина выгнулась. Захрипела — голос ее сел. Плод пошел. Клеенка была совершенно мокрая и темная.
Старик принял ребенка.
— Руки, — сказал он офицерику, — никудышные. Руки трясутся…
— Что?
— Руки трясутся у меня. Головку ему… мякинько…
Офицерик понял. Он поставил лампу. Вытер руки. Вытер пот со лба. Он взял ребенка и даже не сказал, не выговорил, не могу, мол, я и не умею… куда было деться. Он видел скособоченную головку ребенка. Головка была грушевидная, как бы с отеком. А косточки крошечного черепа были мягкие — как глина под рукой.
— Мякинько… Не порань головочку… Мякинько, — повторял старик.
И офицер тихонечко нажимал. Руки сами собой это делали: придавали головке правильную форму.
Тут послышались раздельные чужие крики, резкие и четкие — как команда. И топот. Несколько верховых перемахнули речушку. Другие, следом, ехали через нее медленно — слышались клацающие звуки подков, когда лошади переходят, разбрызгивая мелководье. И смех.
Они его не нашли. Проехали мимо. Но именно так и было — они цокали по дороге, смеялись чему-то, а он мягкими нажимными движениями выправлял голову ребенка. Женщина не кричала. Впала в забытье. Но ненадолго, потому что через полчаса-час пошел второй ребенок. Девочка.
* * *
Офицерик (уже не офицерик) стал жить с ними, стал жить с этой женщиной. Она родила ему сына. А потом еще сына. Жили они долго и счастливо (это уже притчевый привкус) и умерли с разницей в год.
Он тоже рассказывал — много-много лет спустя, когда уже сам стал глубоким стариком, — что он-де предчувствовал свое счастье. Он его почувствовал наперед, едва только вышел на то пустынное место, огляделся — и вдруг стал срывать золотые погоны и форму.
Он говорил, что это был закатный час — земля была белая от травы, алая от солнца. И тропа, хоженая, сама все показала и все объяснила ему, спускаясь и петляя среди белых холмов. В тех краях трава и сейчас в июне белесая, это от белой полыни.
* * *
Пустынное место зовет и манит; зазывая, обещает нам что-то. Некто Назаров, младший научный сотрудник, добрый и великодушный и с самыми незначительными отклонениями от житейской нормы человек, возжаждал пустынного места летом 1970 года. И погиб где-то на Эльбрусе. Он пошел один. Его засыпало снегом. Его нашли полгода спустя.
Есть и другие, что погибли, так и не дойдя, не увидев пустынного места — по дороге к нему.
Пустынное место манит — это такое место и такие минуты, которые емки, и выпуклы, и запоминаются, будто в них и есть твоя жизнь, хотя, конечно, неверно: жизнь не в них. Подчас минуты и место оказываются совсем не там, где ждешь. Нельзя предугадать, нельзя запрограммировать.
В то лето я, как никогда, рвался из города, рвался от суеты и забот хоть куда-нибудь, и наконец мы собрались ехать в деревню, в Подмосковье. Там была такая избушка внаем, халупа в общем. И я уже представлял себе и предвкушал некое бездействие — я-де буду бродить в безлюдье и в отдаленье. И уж где-нибудь обязательно случится «пустынное место», но, жданное, оно не случилось ни в поле, ни у реки, ни в лесу, хотя в наличии были и поле, и река, и лес тоже.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу