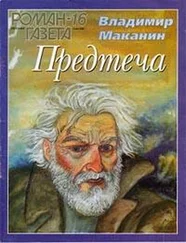И мерещится, и мнится, что сейчас (в тот миг, когда побежишь за картошкой и останешься как бы один) ты что-то поймешь, постигнешь и что-то с чем-то увяжешь и уложишь, пусть только осядут дневные мелочи, как оседает дневная пыль. И ничто, конечно же, не увяжется и не уложится, потому что вообще ничто и нигде не увязывается, только видимость, флер, только игра и ходы фигурами. Но очищенным, чистым одну-две минуты ты побудешь, это точно, для того и бежал.
В притче, как правило, удивляет не финал, не вывод, всегда лишний, и не мораль. Важно пустынное место и некая расстановка сил и чувств в вакуумной той пустоте. Побыть очищенным — для этого и пишутся притчи.
* * *
Можно, к примеру, уйти в горы на месяц. И разводить там костер. И чистить котелок после еды мокрым песком. Можно уехать куда-нибудь на Север. Можно уйти с работы. Можно уйти из жизни.
Очищает ли это?
Спрашиваешь — и в тебе нечто, в отдаленнейшем закоулке «я», нечто последнее и твое шепчет: нет, нет, нет. Не верь. Не очищает.
А притча — да. Притча очищает — такая вот ее служба и такой вот старый фокус. Искусство.
Один кругленький, тихонький и сильно облысевший человек говорил:
— Хочу остаться один… Останусь один и разложу себя по полочкам. Я оглянусь. Я посмотрю — кто я и что я.
И еще говорил:
— Все-все обдумаю и пойму — любил ли я, в сущности, кого-нибудь.
И еще:
— Жизнь уходит. Я так ничего и не понял в себе. Был и такой — и этакий.
И еще сказал; это у него походило на рассредоточенный монолог:
— Хочу уйти. А потом вернуться. Хочу вернуться гармоничным. Хочу вернуться несуетным.
Я спросил:
— Гармоничным — зачем?
Он даже не ответил, только усмехнулся — дескать, неужели не ясно? — дурак же ты, братец.
Очищения в побеге нет — есть только тяга, как бы притяжение к пустынному месту, и ни граммом более. Тяга, которая исчерпывается самим же побегом, исчерпывается сама собой, как ветрянка или свинка.
Известная и не только бытовая модель: живет человек Н. в определенной и очерченной ячейке. В лаборатории живет. Или в школе. Или в семье. Или, наконец, в собственном подъезде, с соседями. Возникает нежданно случай, конфликтная ситуация, когда глаза открываются — и окружающие, милые, и симпатичные, и, в общем, простые люди вдруг перестают быть милыми, симпатичными и, в общем, простыми. Теперь этот Н. видит изнанку. Он видит жесткий каркас окружавшей его (или окружившей) конструкции. Капля, еще одна, переполняет чашу, и вот он уже не может и не хочет с ними жить — уезжает. Скажем, на Север. Или еще куда-то. Неважно куда, важно, что уезжает, уходит. Самоустраняется.
Ушел от людей и придет где-то там — к людям. Куда же еще. И, ясное дело, они окажутся милыми, и симпатичными, и, в общем, простыми.
Так что само состояние смены и есть суть этой смены. Как мгновение меж вдохом и выдохом. Этот миг мал и как бы даже бессмыслен; однако же человек дорожил и всегда будет дорожить этим мигом и, спроси почему, пожмет плечами — неужели не понятно? — дурачок, дескать, ты, братец.
Это как таинство секунды, магия краткого тик-так, у которого не было прошлого и не будет будущего. Лишь оно само. Настоящее.
* * *
Приложима, хотя бы и отчасти, история, рассказанная бабкой, — история однако же, не притча! — о том, что он был царский офицер, из мелких, из не совсем мелких, и было это году в пятнадцатом или даже в шестнадцатом, когда армия уже была не армия. Офицерик был человек пустой, вздорный и донельзя самим собой избалованный… Он навертел долгов, подделал какую-то бумагу — а под занавес кровавая драка в офицерском клубе, хотя поначалу они били друг друга киями в бильярдной, обычное дело. Он убил приятеля, и, конечно, непреднамеренно, он был вздорен и ничего преднамеренно не делал, не умел. Грозил суд. И каторга. Он бежал. Он чуял, что Романовы на волоске и армия тоже на издохе, — год-другой как-нибудь просуществовать, а там… а там ему спишется.
Дело происходило на Урале. Из расположения части офицерик кинулся в край гор и скитов — и довольно удачно, далеко ушел. Повезло. Сначала он загнал лошадь, а потом бежал или брел, не разбирая дороги.
Вдруг — и он вышел на ровную площадь полыни (с мелкими холмами), и ровная эта площадь, чуть накренившаяся, спускалась к речушке. И домик. И километра три до этого домика. Как на ладони. И тропинка туда.
И офицерик вдруг поверил, что ему повезло. Заплакал. Стал срывать с себя все, что было (на случай поимки он все-таки хотел остаться офицером — не из чести, а в расчете на скидку), теперь он уже не хотел быть никем. Он остался в одной нательной рубахе и в подштанниках. Бос. И простоволос. И шел по этой тропинке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу